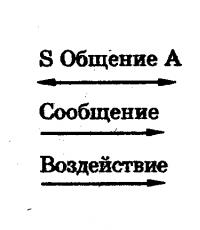Тэффи ностальгия читать. Лохвицкая Надежда Александровна Тэффи - Ностальгия
В произведении повествуется о русской интеллигенции, сбежавшей от террора большевиков.
Все мысли переселенцев направлены на события, происходящие на родине. Испытывая безудержную ностальгию, герои живут только надеждой о скорых изменениях в родной стране и возможности возвращения.
Покинув родные места и обретя внешне спокойное существование, человека не оставляет боль и тоска по месту, где он родился.
Картинка или рисунок Тэффи - Ностальгия
Другие пересказы для читательского дневника
- Краткое содержание поэмы Беовульф
В старой Дании появилось чудовище Грендель, которое убивает воинов, не даёт мирной жизни людям. Смелый Беовульф приплывает на помощь королю, которому отказались оказать поддержку другие.
- Краткое содержание Сорокин Настенька
Вот и стукнуло Настюше шестнадцать лет! Мысли героини наполнены наивностью и кротостью. От родной матери она получила дорогую цепочку, на ней висел бриллиант по форме
- Краткое содержание Лесной царь. Жуковский
На лошади скачут через лес отец с сыном. У ребенка жар. Ему постоянно мерещатся несуществующие на самом деле существа.
- Краткое содержание оперы Аида Верди
«Аида» – история запретной любви на фоне экзотических декораций. Так большинство людей представляют себе эту оперу. На самом деле «Аида»
- Краткое содержание Бианки Плавунчик
Плавунчик – это такой вид птиц. Обитают они на озерцах, реках, морях, в общем, везде, где есть вода. Плавунчики встречаются повсюду, но ни когда не задерживаются на одном месте. Птички эти из семейства куликов.
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Надежда Александровна Тэффи
НОСТАЛЬГИЯ
Рассказы
Воспоминания
Автор считает нужным предупредить, что в «Воспоминаниях» этих не найдет читатель ни прославленных героических фигур описываемой эпохи с их глубокой значимости фразами, ни разоблачений той или иной политической линии, ни каких-либо «освещений и умозаключений».
Он найдет только простой и правдивый рассказ о невольном путешествии автора через всю Россию вместе с огромной волной таких же, как он, обывателей.
И найдет он почти исключительно простых, неисторических людей, показавшихся забавными или интересными, и приключения, показавшиеся занятными, и если приходится автору говорить о себе, то это не потому, что он считает свою персону для читателя интересной, а только потому, что сам участвовал в описываемых приключениях и сам переживал впечатления и от людей, и от событий, и если вынуть из повести этот стержень, эту живую душу, то будет повесть мертва.
Москва. Осень. Холод.
Мое петербургское житье-бытье ликвидировано. «Русское слово» закрыто. Перспектив никаких.
Впрочем, есть одна перспектива. Является она каждый день в виде косоглазого одессита антрепренера Гуськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу устраивать мои, литературные выступления.
Убеждал мрачно:
– Сегодня ели булку? Ну, так завтра уже не будете. Все, кто может, едут на Украину. Только никто не может. А я вас везу, я вам плачу шестьдесят процентов с валового сбора, в «Лондонской» гостинице лучший номер заказан по телеграфу, на берегу моря, солнце светит, вы читаете рассказ-другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину, вы себе сыты и сидите в кафе. Что вы теряете? Спросите обо мне – меня все знают. Мой псевдоним – Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ей-богу, едем! Лучший номер в «Международной» гостинице.
– Вы говорили – в «Лондонской»?
– Ну, в «Лондонской». Плоха вам «Международная»?
Ходила, советовалась. Многие действительно стремились на Украину.
– Этот псевдоним, Гуськин,– какой-то странный.Чем странный? – отвечали люди опытные.– Не страннее других. Они все такие, эти мелкие антрепренеры.
Сомнения пресек Аверченко. Его, оказывается, вез в Киев другой какой-то псевдоним. Тоже на гастроли. Решили выехать вместе. Аверченкин псевдоним вез еще двух актрис, которые должны были разыгрывать скетчи.
– Ну, вот видите! – ликовал Гуськин.-Теперь
только похлопочите о выезде, а там все пойдет, как
хлеб с маслом.
Нужно сказать, что я ненавижу всякие публичные выступления. Не могу даже сама себе уяснить почему. Идиосинкразия. А тут еще псевдоним – Гуськин с процентами, которые он называет «порценты». Но кругом говорили: «Счастливая, вы едете!», «Счастливая – в Киеве пирожные с кремом». И даже просто: «Счастливая… с кремом!»
Все складывалось так, что надо было ехать. И все кругом хлопотали о выезде, а если не хлопотали, не имея на успех никаких надежд, то хоть мечтали. А люди с надеждами неожиданно находили в себе украинскую кровь, нити, связи.
– У моего кума был дом в Полтаве.
– А моя фамилия, собственно говоря, не Нефе-
дин, а Нехведин, от Хведько, малороссийского кор
– Люблю цыбулю с салом!
– Попова уже в Киеве, Ручкины, Мельзоны, Ко-
кины, Пупины, Фики, Шпруки. Все уже там.
Гуськин развил деятельность.
– Завтра в три часа приведу вам самого страш
ного комиссара с самой пограничной станции. Зверь.
Только что раздел всю «Летучую мышь». Все ото
– Ну уж если они мышей раздевают, так где уж
нам проскочить!
– Вот я приведу его знакомиться. Вы с ним по
любезничайте, попросите, чтобы пропустил. Вече
ром поведу его в театр.
Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведающем делами театральными. Там очень томная дама, в прическе Клео де Мерод, густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли.
Потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди, долгие, долгие часы. Наконец солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась и вышел «сам». Кто он был – не знаю. Но был он, как говорилось, «весь в пулеметах».
– Вы такая-то?
– Да,-призналась. (Все равно теперь уж не
отречешься.)
– Писательница?
Молча киваю головой. Чувствую, что все кончено,-иначе чего же он выскочил.
– Так вот, потрудитесь написать в этой тетради
ваше имя. Так. Проставьте число и год.
Пишу дрожащей рукой. Забыла число. Потом забыла год. Чей-то испуганный шепот сзади подсказал.
– Та-ак! – мрачно сказал «сам». Сдвинул брови.
Прочитал. И вдруг грозный рот его медленно по
ехал вбок в интимной улыбке: -Это мне… захоте
лось для автографа!
– Очень лестно!
Пропуск дан.
Гуськин развивает деятельность все сильнее. Приволок комиссара. Комиссар страшный. Не человек, а нос в сапогах. Есть животные головоногие. Он был косоногий. Огромный нос, к которому прикреплены две ноги. В одной ноге, очевидно, помещалось сердце, в другой совершалось пищеварение. На ногах сапоги желтые, шнурованные, выше колен. И видно, что комиссар волнуется этими сапогами и гордится. Вот она, ахиллесова пята. Она в этих сапогах, и змей стал готовить свое жало.
– Мне говорили, что вы любите искусство…-
начинаю я издалека и… вдруг сразу, наивно и жен
ственно, словно не совладев с порывом, сама себя
перебила: – Ах, какие у вас чудные сапоги!
Нос покраснел и слегка разбухает.
– М-м… искусство… я люблю театры, хотя редко
приходилось…
– Поразительные сапоги! В них прямо что-то
рыцарское. Мне почему-то кажется, что вы вообще
необыкновенный человек!
– Нет, почему же…-слабо защищается комис
сар.– Положим, я с детства любил красоту и ге
роизм… служение народу…
«Героизм и служение» – слова в моем деле опасные. Из-за служения раздели «Летучую мышь». Надо скорее базироваться на красоте.
– Ах нет, нет, не отрицайте! Я чувствую в вас
глубоко художественную натуру. Вы любите искус-
ство, вы покровительствуете проникновению его в народные толщи. Да, в толщи, и в гущи, и в чащи. У вас замечательные сапоги… Такие сапоги носил Торквато Тассо… и то не наверное. Вы гениальны!
Последнее слово решило все. Два вечерних платья и флакон духов будут пропущены как орудия производства.
Вечером Гуськин повел комиссара в театр. Шла оперетка «Екатерина Великая», сочиненная двумя авторами – Лоло и мною…
Комиссар отмяк, расчувствовался и велел мне передать, что «искусство действительно имеет за собой» и что я могу провезти все, что мне нужно,– он будет «молчать, как рыба об лед».
Больше я комиссара не видала.
Последние московские дни прошли бестолково и сумбурно.
Из Петербурга приехала Каза-Роза, бывшая певица «Старинного театра». В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность: она знала, что у кого есть и кому что нужно.
Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила:
– В Криво-Арбатском переулке, на углу, в суров-
ской лавке, осталось еще полтора аршина батиста.
Вам непременно нужно его купить.
– Да мне не нужно.
– Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь,
уж нигде ничего не останется.
В другой раз прибежала запыхавшаяся:
– Вам нужно сейчас же сшить бархатное платье!
– Вы сами знаете, что это вам необходимо. На
углу в москательной хозяйка продает кусок зана
вески. Только что содрала, совсем свежая, прямо
с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам
необходимо. А такой случай уж никогда не предста
Лицо серьезное, почти трагическое.
Ужасно не люблю слова «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я б и то, наверное, испугалась.
Покорилась Каза-Розе, купила роскошный лоскут с семью гвоздями.
Странные были эти последние дни.
По черным ночным домам, где прохожих душили и грабили, бегали мы слушать оперетку «Сильва» или в обшарпанных кафе, набитых публикой в рваных, пахнущих мокрой псиной пальто, слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде и даже Брюсов не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то их «эротический вечер»!
Всем хотелось быть «на людях»…
Одним, дома, было жутко.
Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге.
Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он: в Киеве или там, откуда не вернется?
Жили, как в сказке о Змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать двенадцать девиц и двенадцать добрых молодцев. Казалось бы, как могли люди сказки этой жить на свете, когда знали, что сожрет Горыныч лучших детей их. А вот тогда, в Москве, думалось, что, наверное, и Горынычевы вассалы бегали по театрикам и покупали себе на платьишко. Везде может жить человек, и я сама видела, как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти несколько шагов своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом.
Так и мы. Покупали какие-то «последние лоскутья», слушали в последний раз последнюю оперетку и последние изысканно-эротические стихи, скверные, хорошие – не все ли равно! – только бы не знать, не сознавать, не думать о том, что нас тащат на лед.
Из Петербурга пришла весточка: известную артистку арестовали за чтение моих рассказов. В чека заставили ее перед грозными судьями повторить рассказ. Можете себе представить, с какой бодрой веселостью читался этот юмористический монолог между двумя конвойными со штыками. И вдруг – о радостное чудо! – после первых же трепетных фраз лицо одного из судей расплывается в улыбку:
– Я слышал этот рассказ на вечере у товарища
Ленина. Он совершенно аполитичен.
Успокоенные судьи попросили успокоенную подсудимую продолжить чтение уже «в ударном порядке развлечения».
В общем, пожалуй, все-таки хорошо было уехать хоть на месяц. Переменить климат.
А Гуськин все развивал деятельность. Больше, вероятно, от волнения, чем по необходимости. Бегал почему-то на квартиру к Аверченке.
– Понимаете, какой ужас,-потрясая руками,
рассказывал он.– Прибегал сегодня в десять утра
к Аверченке, а он спит, как из ведра. Ведь он же на
поезд опоздает!
– Да ведь мы же только через пять дней едем.
– А поезд уходит в десять. Если он сегодня так
спал, так почему через неделю не спать? И вообще
всю жизнь? Он будет спать, а мы будем ждать? Но
вое дело!
Бегал. Волновался. Торопился. Хлопал в воздухе, как ремень на холостом ходу. А кто знает, как бы сложилась моя судьба без этой его энергии. Привет вам, Гуськин-псевдоним, не знаю, где вы…
Намеченный отъезд постоянно откладывался.
То кому-нибудь задерживали пропуск, то оказывалось, что надежда наша и упование – комиссар Нос-в-сапогах – еще не успел вернуться на свою станцию.
Мои хлопоты по отъезду уже почти закончились. Сундук был уложен. Другой сундук, в котором были сложены (последнее мое увлечение) старинные русские шали, поставлен был в квартире Лоло.
– А вдруг за это время назначат какую-нибудь
неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантно
сти, и все эти вещи конфискуют?
Я попросила в случае опасности заявить, что сундук пролетарского происхождения, принадлежит бывшей кухарке Федосье. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением – положила сверху портрет Ленина с надписью: «Душеньке Феничке в знак приятнейших воспоминаний. Любящий Вова».
Впоследствии оказалось, что и это не помогло.
Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре. Выплывали из тумана люди, кружились и гасли в тумане, и выплывали новые. Так, с берега в весенние сумерки если смотришь на ледоход, видишь – плывет-кружится не то воз с соломой, не то хата, а на другой льдине – будто волк и обугленные головешки. Покружится, повернется, и унесет его течением навсегда. Так и не разберешь, что это, собственно говоря, было.
Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса.
Из Петербурга в Казань проехал в свое имение знакомый помещик. Написал из Казани, что имение разграблено крестьянами и что он ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо: мой портрет работы художника Шлейфера, повешенный в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я великомученица…
Неожиданно прибило к нашему берегу Л. Яворскую. Пришла элегантная, как всегда, говорила о том, что мы должны сплотиться и что-то организовать. Но что именно – никто так и не понял. Ее провожал какой-то бойскаут с голыми коленками. Она его называла торжественно «мосье Соболев». Льдина повернулась, и они уплыли в тумане…
Неожиданно появилась Миронова. Сыграла какие-то пьесы в театрике на окраине и тоже исчезла.
Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком, помог ей в деле и, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. Он никогда не видал живого писателя, обожал литературу и мечтал взглянуть на нас. Актриса, спросив нашего разрешения, привела комиссара. Это был самый огромный человек, которого я видела за свою жизнь. Откуда-то сверху гудел колоколом его голос, но гудел слова самые сентиментальные: детские стихи из хрестоматии и уверения, что до встречи с нами он жил только умом (с ударением на «у»), а теперь зажил сердцем.
Целые дни он ловил бандитов. Устроил музей преступлений и показывал нам коллекцию необычно сложных инструментов для перекусывания дверных цепочек, бесшумного выпиливания замков и перерезывания железных болтов. Показывал деловые профессионально-воровские чемоданчики, с которыми громилы идут на работу. В каждом чемоданчике были непременно потайной фонарик, закуска и флакон одеколону. Одеколон удивил меня.
«Странно – какие вдруг культурные потребности, какая изысканность, да еще в такой момент. Как им приходит в голову обтираться одеколоном, когда каждая минута дорога?»
Дело объяснилось просто: одеколон этот заменял им водку, которую тогда нельзя было достать.
Половивши своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок, умилялся, удивлялся, что мы «те самые», и провожал меня домой. Жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам рядом с этим верзилой. Кругом жуткие шорохи, крадущиеся шаги, вскрики, иногда выстрелы. Но самое страшное все-таки был этот охраняющий меня великан.
Иногда ночью звонил телефон. Это ангел-хранитель, переставший жить умом (с ударением на «у»), спрашивал, все ли у нас благополучно.
Перепуганные звонком, успокаивались и декламировали:
Летают сны-мучители
Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.
Ангел-хранитель не бросил нас до самого нашего отъезда, проводил на вокзал и охранил наш багаж, который очень интересовал вокзальных чекистов.
У всех нас, отъезжающих, было много печали, и общей всем нам, и у каждого своей, отдельной. Где-то глубоко за зрачками глаз чуть светился знак этой печали, как кости и череп на фуражке «гусаров смерти». Но никто не говорил об этой печали.
Помню нежный силуэт молодой арфистки, кото-
рую потом, месяца через три, предали и расстреляли. Помню свою печаль о молодом друге Лене Кан-негиссере. За несколько дней до убийства Урицкого он, узнав, что я приехала в Петербург, позвонил мне по телефону и сказал, что очень хочет видеть меня, но где-нибудь на нейтральной почве.
– Почему же не у меня?
– Я тогда и объясню почему.
Условились пообедать у общих знакомых.
– Я не хочу наводить на вашу квартиру тех, ко
торые за мной следят,-объяснил Каннегиссер, ког
да мы встретились.
Я тогда сочла слова мальчишеской позой. В те времена многие из нашей молодежи принимали таинственный вид и говорили загадочные фразы.
Я поблагодарила и ни о чем не расспрашивала.
Он был очень грустный в этот вечер и какой-то притихший.
Ах, как часто вспоминаем мы потом, что у друга нашего были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И потом мы всегда знаем, что надо было сделать тогда, как взять друга за руку и отвести от черной тени. Но есть какой-то тайный закон, который не позволяет нам нарушить, перебить указанный нам темп. И это отнюдь не эгоизм и не равнодушие, потому что иногда легче было бы остановиться, чем пройти мимо. Так, по плану трагического романа «Жизнь Каннегиссера» великому Автору его нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо. Как во сне – вижу, чувствую, почти знаю, но остановиться не могу…
Вот так и мы, писатели, по выражению одного из современных французских литераторов, «подражатели Бога» в Его творческой работе, мы создаем миры и людей и определяем их судьбы, порой несправедливые и жестокие. Почему поступаем так, а не иначе,– не знаем. И иначе поступить не можем.
Помню, раз на репетиции одной из моих пьес подошла ко мне молоденькая актриса и сказала робко:
– Можно у вас спросить? Вы не рассердитесь?
– Можно. Не рассержусь.
– Зачем вы сделали так, что этого бестолкового
мальчишку в вашей пьесе выгоняют со службы? За
чем вы такая злая? Отчего вы не захотели, ну, хоть
приискать для него другое место? А еще в одной вашей пьесе бедный коммивояжер остался в дураках. Ведь ему же это неприятно. Зачем же так делать? Неужели вы не можете все это как-нибудь поправить? Почему?
– Не знаю… Не могу… Это не от меня зависит…
Но она так жалобно просила меня, и губы у нее
так дрожали, и такая она была трогательная, что я обещала написать отдельную сказку, в которой соединю всех мною обиженных и в рассказах, и в пьесах и вознагражу всех.
– Чудесно! – сказала актриса.-Вот это будет
И она поцеловала меня.
– Но боюсь одного,-остановила я ее.-Боюсь,
что наш рай никого не утешит, потому что все по
чувствуют, что мы его выдумали, и не поверят нам…
Ну вот, утром едем на вокзал.
Гуськин с вечера бегал от меня к Аверченке, от Аверченки – к его импресарио, от импресарио – к артистам, лез по ошибке в чужие квартиры, звонил не в те телефоны и в семь часов утра влетел ко мне, запаренный, хрипящий, как опоенная лошадь. Взглянул и безнадежно махнул рукой.
– Ну конечно. Новое дело. Опоздали на вокзал!
– Быть не может! Который же час?
– Семь часов, десятый. Поезд в десять. Все
Гуськину дали кусок сахару, и он понемногу успокоился, грызя это попугайное угощение.
Внизу загудел присланный ангелом-хранителем автомобиль.
Чудесное осеннее утро. Незабываемое. Голубое, с золотыми куполами-там, наверху. Внизу – серое, тяжелое, с остановившимися в глубокой тоске глазами. Красноармейцы гонят группу арестованных… Высокий старик в бобровой шапке несет узелок в бабьем кумачовом платочке… Старая дама в солдатской шинели смотрит на нас через бирюзовый лорнет… Очередь у молочной лавки, в окне которой выставлены сапоги…
«Прощай, Москва, милая. Не надолго. Всего на
месяц. Через месяц вернусь. Через месяц. А что потом будет, об этом думать нельзя».
«Когда идешь по канату,– рассказывал мне один акробат,-никогда не следует думать, что можешь упасть. Наоборот. Нужно верить, что все удастся, и непременно напевать».
Веселый мотив из «Сильвы» со словами потрясающего идиотизма звенит в ушах:
Любовь-злодейка,
Любовь-индейка,
Любовь из всех мужчин
Наделала слепых…
«Какая лошадь сочинила это либретто?..» У дверей вокзала ждет Гуськин и гигант комиссар, переставший жить умом (с ударением на «у»). «Москва, милая, прощай. Через месяц увидимся». С тех пор прошло десять лет…
Началось путешествие довольно гладко.
Ехали в вагоне второго класса, каждый на своем месте, не под скамьей и не в сетке для багажа, а как вообще пассажирам сидеть полагается.
Антрепренер мой, псевдоним Гуськин, волновался – почему поезд долго не отходит, а когда отошел-стал уверять, что отошел преждевременно.
– И это недобрый знак! Еще увидите, что будет!
Вид у Гуськина, как только он влез в вагон, мгновенно и странно изменился. Казалось, будто он путешествует дней десять и вдобавок при самых зверских условиях: башмаки у него расшнуровались, воротничок отстегнулся и обнаружил под кадыком круглый зеленый знак от медной запонки. И что совсем уж странно – щеки покрылись щетиной, будто он дня четыре отпускает бороду.
Кроме нашей группы сидели в том же отделении три дамы. Разговоры велись то вполголоса, а то и совсем шепотом на тему, близкую переживаемому моменту: как кто словчился перевезти за границу бриллианты и деньги.
– Слыхали? Прокины все свое состояние пере
везли. Накрутили на бабушку.
– А почему же бабушку не осматривали?
– Ох, и что вы! Она такая неприятная. Ну кто же решится!..
– А Коркины как ловко придумали! И все экспромтом! Мадам Коркина, уже обшаренная, стоит в стороне и вдруг – «ах, ах!» – нога у нее подвернулась. Не может шага сделать. А муж, еще необшаренный, говорит красноармейцу: «Передайте ей, пожалуйста, мою палку, пусть подопрется». Тот передал. А палка-то у них долбленая и набита бриллиантами. Ловко?
– У Булкиных чайник с двойным дном.
– Фаничка провезла большущий бриллиант, так вы не поверите – в собственном носу.
– Ну, ей хорошо, когда у нее нос на пятьдесят карат. Не всякому такое счастье.
Потом рассказывали трагическую историю, как какая-то мадам Фук спрятала очень хитро бриллиант в яйцо. Сделала маленькую дырочку в скорлупе сырого яйца, засунула бриллиант, а потом яйцо сварила вкрутую. Пойди-ка найди. Положила яйцо в корзинку с провизией и спокойно сидит, улыбается. Входят в вагон красноармейцы. Осматривают багаж. Вдруг один солдат схватил это самое яйцо, облупил и тут же, на глазах у мадам Фук, слопал. Несчастная женщина так дальше и не поехала. Вылезла на станции, три дня ходила за этим паршивым красноармейцем, как за малым ребенком, глаз с него не спускала.
– Ну и что же?
– Э, где там! Так ни с чем и домой вернулась. Стали вспоминать о разных хитростях, о том, как
во время войны ловили шпионов.
– До того эти шпионы исхитрились! Подумайте только: стали у себя на спине зарисовывать планы крепостей, а потом сверху закрашивать. Ну, военная разведка тоже не глупая -живо догадалась. Стали всем подозрительным субъектам спины мыть. Конечно, случались досадные ошибки. У нас в Гродне поймали одного господина. На вид – прямо поразительный брюнет. А как вымыли его, оказался блондин и честнейший малый. Разведка очень извинялась…
Под эту мирную беседу на жуткие темы ехать было приятно и удобно, но не проехали мы и трех
часов, как вдруг поезд остановился и велели всем высаживаться.
Вылезли, выволокли багаж, простояли на платформе часа два и влезли в другой поезд, весь третьеклассный, набитый до отказа. Против нас оказались злющие белоглазые бабы. Мы им не понравились.
– Едут,-сказала про нас рябая, с бородавкой.– Едут, а чего едут и зачем едут – и сами не знают.
– Что с цепи сорвавши,-согласилась с ней другая, в замызганном платке, кончиками которого она элегантно вытирала свой утиный нос.
Больше всего раздражала их китайская собачка пекинуа, крошечный шелковый комочек, которую везла на руках старшая из наших актрис.
– Ишь, собаку везет! Сама в шляпке и собаку везет.
– Оставила бы дома. Людям сесть некуды, а она собачищу везет!
– Небось мы собак с собой не возим,– не унимались бабы.
– Ее одну дома оставлять нельзя. Она нежная. За ней ухода больше, чем за ребенком.
– Чаво-о?
– Ой, да что же это? – вдруг окончательно взбеленилась рябая и даже с места вскочила.-Эй! Послушайте-ка, что тут говорят-то. Вон энта, в шляпке, говорит, что наши дети хуже собак! Да неужто мы это сносить должны?
– Кто-о? Мы-ы? Мы собаки, а она нет? -зароптали злобные голоса.
Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы дикий визг не прервал этой интересной беседы. Визжал кто-то на площадке. Все сорвались с мест, кинулись узнавать. Рябая сунулась туда же и, вернувшись, очень дружески рассказывала нам, как там поймали вора и собрались его «под вагон спущать», да тот на ходу спрыгнул.
– Жуткие типики! -сказал Аверченко.-Старайтесь не обращать ни на что внимания. Думайтео чем-нибудь веселом.
Думаю. Вот сегодня вечером зажгутся в театре
огни, соберутся люди, рассядутся по местам и станут слушать:
Любовь-злодейка,
Любовь-индейка,
Любовь из всех мужчин
Наделала слепых…
И зачем я только вспомнила! Опять привязался этот идиотский куплет! Как болезнь!
Кругом бабы весело гуторят, как бы хорошо было вора под колеса спустить и что он теперь не иначе как с проломленной головой лежит.
– Самосудом их всех надо! Глаза выколоть, язык вырвать, уши отрезать, а потом камень на шею да в воду!
– У нас в деревне подо льдом проволакивали наверевке из одной пролуби да в другую…
– Жгут их тоже много…
О, интересно, что бы они с нами сделали за собачку, если бы история с вором не перебила настроения.
Л юбовь-злодейка,
Любовь-индейка…
– Какой ужас! -говорю я Аверченке.
– Тише…-останавливает он.
– Я не про них. У меня своя пытка. Не могу от «Сильвы» отвязаться. Буду думать о том, как бы они нас жарили (может быть, это поможет). Воображаю, как моя рябая визави суетилась бы! Она хозяйственная. Раздувала бы щепочки… А что бы говорил Гуськин? Он бы кричал: «Позвольте, но у нас контракт! Вы мешаете ей выполнить договор и разоряете меня как антрепренера! Пусть она сначала заплатит мне неустойку!»
«Индейка» и «злодейка» понемногу стали отходить, глохнуть, гаснуть.
Поезд подходил к станции. Засуетились бабы с узлами, загромыхали сапожищи солдат, мешки, кули, корзины закрыли свет божий. И вдруг за стеклом искаженное ужасом лицо Гуськина: он ехал последние часы в другом вагоне. Что с ним случилось?
Страшный, белый, задыхается.
– Вылезайте скорее! Маршрут меняется. По той дороге проехать нельзя. Потом объясню…
Нельзя так нельзя. Вылезаем. Я замешкалась и выхожу последняя. Только что спрыгнула на платформу, как вдруг подходит ко мне оборванный нищий мальчишка и отчетливо говорит:
– «Любовь-злодейка, любовь-индейка». Пожалуйте полтинник.
– Полтинник. «Любовь-злодейка, любовь-индейка».
Кончено. Сошла с ума. Слуховая галлюцинация. Не могли, видно, мои слабые силы перенести этой смеси: оперетку «Сильва» с народным гневом.
Ищу дружеской поддержки. Ищу глазами нашу группу. Аверченко ненормально деловито рассматривает собственные перчатки и не откликается на мой зов. Сую мальчишке полтинник. Ничего не понимаю, хотя догадываюсь…
– Признавайтесь сейчас же! -говорю Аверченке.
Он сконфуженно смеется.
– Пока,– говорит,– вы в вагоне возились, я этого мальчишку научил: хочешь, спрашиваю, деньги заработать? Так вот, сейчас из этого вагона вылезет пассажирка в красной шапочке. Ты подойди к ней и скажи: «Любовь-злодейка, любовь-индейка». Она за это всегда всем по полтиннику дает. Мальчишка оказался смышленый.
Гуськин, хлопотавший у багажного вагона с нашими сундуками, подошел, обливаясь зеленым потом ужаса.
– Новое дело! – трагическим шепотом сказал он.-Этот бандит расстрелялся!
– Какой бандит?
– Да ваш комиссар. Чего вы не понимаете? Ну? Расстреляли его за грабежи, за взятки. Через ту границу ехать нельзя. Там теперь не только оберут, а еще и зарежут. Попробуем проехать через другую.
Через другую так через другую. Часа через два сели в другой поезд и поехали в другую сторону.
Приехали на пограничную станцию вечером. Было холодно, хотелось спать. Что-то нас ждет? Скоро ли выпустят отсюда и как поедем дальше?
Гуськин с Аверченкиным «псевдонимом» ушли на вокзал для переговоров и выяснения положения,
строго наказав нам стоять и ждать. Ауспиции были тревожны.
Платформа была пустая. Изредка появлялась какая-то темная фигура, не то сторож, не то баба в шинели, смотрела на нас подозрительно и снова уходила. Ждали долго. Наконец показался Гуськин. Не один. С ним четверо.
Один из четырех кинулся вперед и подбежал к нам. Эту фигуру я никогда не забуду: маленький, худой, черный, кривоносый человечек в студенческой фуражке и в огромной великолепной бобровой шубе, которая стлалась по земле, как мантия на королевском портрете в каком-нибудь тронном зале. Шуба была новая, очевидно, только что содранная с чьих-то плеч.
Человечек подбежал к нам, левой рукой, очевидно, привычным жестом подтянул штаны, правую вдохновенно и восторженно поднял кверху и воскликнул:
– Вы Тэффи? Вы Аверченко? Браво, браво и браво. Перед вами комиссар искусств этого местечка. Запросы огромные. Вы, наши дорогие гости, остановитесь у нас и поможете мне организовать ряд концертов с вашими выступлениями, ряд спектаклей, во время которых исполнители – местный пролетариат-под вашим руководством разыграют вашипьесы.
Актриса с собачкой, тихо ахнув, села на платформу. Я оглянулась кругом. Сумерки. Маленький вокзальчик с полисадничком. Дальше убогие местечковые домишки, заколоченная лавчонка, грязь, голая верба, ворона и этот «Робеспьер».
– Мы бы, конечно, с удовольствием,-спокойно отвечает Аверченко,-но, к сожалению, у нас снят киевский театр для наших вечеров, и мы должны очень спешить.
– Ничего подобного! – воскликнул Робеспьер и вдруг понизил голос.– Вас никогда не пропустят через границу, если я об вас не попрошу специально. А почему я буду просить? Потому что вы отозвались на нужды нашего пролетариата. Тогда я смогу даже попросить, чтобы пропустили ваш багаж!..
Тут неожиданно выскочил Гуськин и захлопотал:
– Господин комиссар. Ну конечно же, они согла
шаются. Я хотя теряю на этой задержке огромный
капитал, но я сам берусь их уговорить, хотя я сразу понял, что они уже рады служить нашему дорогому пролетариату. Но имейте в виду, господин комиссар, только один вечер. Но какой вечер! Такой вечер, что вы мне оближете все пальчики. Вот как! Завтра вечер, послезавтра утром в путь. Ну, вы уже согласны, ну, вы уже довольны. Но где бы нам переночевать наших гостей?
– Стойте здесь. Мы сейчас все устроим! -воскликнул Робеспьер и побежал, заметая следы бобра
ми. Три фигуры, очевидно его свита, последовали за ним.
– Попали! В самое гнездо! Каждый день расстрелы… Три дня тому назад – сожгли живьем генерала. Багаж весь отбирают. Надо выкручиваться.
– Пожалуй, придется ехать назад, в Москву.
– Тсс!..-шелестел Гуськин.-Они вас пустят в Москву, чтобы вы рассказали, как они вас ограбили? Так они вас не пустят! -с жутким ударением на «не» сказал он и замолчал.
Вернулся Аверченкин антрепренер. Шел, прижимаясь к стенке, и оглядывался, втягивая голову в плечи.
– Где же вы были?
– Сделал маленькую разведку. Беда… Некуда сунуться. Местечко битком набито народом.
Рассказ начинается с утверждения, что всех людей мы делим на «чужих и своих». Каким образом? Просто про «своих» мы знаем, сколько им лет и сколько у них денег. Эти важнейшие для людей вещи и понятия всегда стараются скрыть. Более того, на «чужих» всегда хотят произвести хорошее впечатление (будто лет мало, а денег много), поэтому ведут себя приветливо. «Свои» же понимают, что ничего скрывать не нужно, а ещё любят говорить всё, как есть. Получается, чем больше близких людей, тем больше правды мы о себе знаем, а это неприятно.
Весь рассказ продолжается сравнение ситуаций с «чужими и своими». Например, Тэффи приводит пример: встретив чужого человека на улице, услышишь массу приятных слов о себе, а при встрече с родным – только неприятную правду. Или в болезни: чужие всегда побеспокоятся, а свои только посмеются, попытаются приободрить, но довольно строго. Дескать, что ты тут расхныкалась?! «Чужие» приятно преувеличивают ерундовое достоинство человека, а «свои» принижают даже значимое.
Дома все обычно хмурые и злые, а вот в гостях такие радостные и красивые! Сравниваются «чужие и свои» в ситуациях с забавными диалогами и характерами.
В финале приводится пример, который, видно, натолкнул автора на идею рассказа. Человек возмутился, что на него кричат, как на «своего». То есть «свой» мог бы себе такое позволить, но вот посторонний…
В общем, сравнение явно в пользу «чужих». Они такие всегда приятные… Вот только рассказ учит, что это всё это ненатурально.
Картинка или рисунок Тэффи - Свои и чужие
Другие пересказы для читательского дневника
- Краткое содержание Цвейг 24 часа из жизни женщины
Виртуозный мастер прозы Стефан Цвейг вывел героинями новеллы «24 часа из жизни женщины» молодую мадам Анриэт и пожилую мадам К.Действия происходят в Ривьере. Сюжет сразу закручивается интригой: француз-щеголь вскружил голову жене фабриканта Мадам Анриэт
- Краткое содержание Чехов Беззащитное существо
Кистунов, управляющий банком, отправляется на работу несмотря на свою подагру. В банк является некая Щукина с прошением.
- Краткое содержание Новое платье короля Андерсена
Жил был на свете один король. Любил он разные наряды. Все свое время проводил он в гардеробе. На каждый день, на каждый час у него был разный наряд. Лучшие ткани, лучшие платья, мантии принадлежали этому королю.
- Краткое содержание Чехов Маска
В клубе дают благотворительный бал-маскарад. Желающие танцуют в кадрили, интеллектуалы удаляются в читальню изучать газеты. Тишину нарушает приход веселой кампании. Мужчина в маске, одетый в костюм кучера и шляпу с павлиньим пером
- Краткое содержание Три года Чехова
В произведении отражены некоторые моменты жизни московского коммерсанта Лаптева. В самом начале перед нами перед нами предстает наш главный герой, ожидающий в саду на лавочке Юлию Сергеевну с церковной службы
«Вчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал:
Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия.
Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут.
Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже прошло».
Писательница говорит, что все чаще и чаще видит признаки этой болезни. За границу приезжают беженцы из России. Они измучены, измождены. Проходит немного времени. Они успокаиваются, начинают строить новую жизнь.
Но вдруг словно теряют силы. «Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа, душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской и умерли - смертью здесь. Вот мы - смертию смерть поправшие!
Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда. А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли и силы...»
Теперь все разговоры и помыслы касаются исключительно России. Эмигранты спрашивают о лесах, вспоминают, казалось бы, несущественные подробности. Но для них теперь эти подробности намного важнее, чем все, что их окружает. И даже русская трава, деревья кажутся лучше, ближе, роднее, чем трава, деревья за границей. «И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают.
У нас каждая баба знает, - если горе большое и надо попричитать - иди в лес, обними березыньку крепко двумя руками, грудью прижмись и качайся вместе с нею и голоси голосом, словами, слезами, изойди вся вместе с нею, с белою, с русскою березынькой».
У знакомых писательницы есть старая нянька, которую привезли из Москвы. Она постоянно задает вопросы французской кухарке. Та, разумеется, ее не понимает.
Старушка-няня спрашивает: «А вот, скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно. Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось, молчишь! Молчать всякий может. Молчать даже очень легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать. Вот что!».
«Нянька долго стоит у дверей у притолки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил. Наговорится, напечалится, съежится, будто меньше станет и пойдет в детскую к ночным думкам, к старушь-им снам - все о том же».
Все слушают тех, кто приезжает из России. Все надеются, что скоро придет конец большевизму. Никто не верит, что власть большевиков в России установилась навсегда. Кажется, что пройдет два месяца, и все вернется на круги своя. Чудовищная абсурдность ситуации, сложившейся в родной стране, кажется кратковременной. Но, увы, людям остается только вспоминать. Потому что ничего не меняется.
Тоска по родине в рассказе Тэффи «Ностальгия»
Невозможно не прочувствовать истинную тоску и боль писательницы. В своем рассказе «Ностальгия» она говорит о том, как эмигранты, вынужденные покинуть большевистскую Россию, тосковали по ней. Все стало терять свой смысл. Благополучие и комфорт уже не были столь важны, ведь душа томилась по родине. Бытовые мелочи не могли успокоить исстрадавшихся людей, лишенных родной страны.
Н. А. Тэффи
Ностальгия
Тэффи Н. А. Собрание сочинений. Том 3: "Городок". М., Лаком, 1998.
Пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я как символ свято берегу...
Лоло
Вчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал: -- Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия. Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут. Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже пришло. Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаше и чаще. Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа -- душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской -- и умерли смертью здесь. Вот мы -- смертью смерть поправшие. Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда. А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли, и силы... -- Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить: и некому, и нечем. Остались леса. И трава, зеленая-зеленая, русская. Конечно, и здесь есть трава. И очень даже хорошая. Но ведь это ихняя e"herbe {Трава (фр.). }, a не наша травка-муравка. И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают. У нас каждая баба знает -- если горе большое и надо попричитать -- иди в лес, обними березоньку, крепко, двумя руками, грудью прижмись, и качайся вместе с нею, и голоси голосом; словами, слезами изойди вся вместе с нею, с белою, со своею, с русской березонькой! А попробуйте здесь. -- Allons au Bois de Boulogne embrasser le bouleau! {Пойдемте в Булонский лес обнять березу! (фр.) .} Переведите русскую душу на французский язык... Что? Веселее стало? Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку, как бежит она, перепрыгивая с камушка на камушек, струйками играет, простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое: -- Наша речка русская! Ффью! Вот тебе и третий интернационал! Как тепло! Ведь, пожалуй, скоро и там сирень зацветет... У знакомых старая нянька. Из Москвы вывезена. Плавна, самая настоящая -- толстая, сердитая, новых порядков не любит, старые блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит. Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню. Там француженка кухарка готовит поздний французский обед. -- Asseyez-vous! {Садитесь (фр.). } -- подставляет она табуретку. Нянька не садится. -- Не к чему, ноги еще, слава Богу, держат. Стоит у двери, смотрит строго. -- А вот скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно? Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось молчишь! Молчать всякий может, молчать очень даже легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать. Вот что! -- Я в суп кладу селлери и зеленый горошек! -- любезно отвечает кухарка. -- Вот то-то и оно... Как же ты к заутрене попадешь без благовесту? То-то, я смотрю, у вас и не ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя... А почему у вас собак нет? Этакий город большой, а собак -- раз-два, да и обчелся. И то самые мореные, хвосты дрожат. -- Четыре франка кило, -- возражает кухарка. -- Теперь, вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать -- клюкву бабы на базар вынесли, первую, подснежную. Ее и в чай хорошо. А ты что? Ты, пожалуй, и киселя-то никогда не пробовала! -- Le président de la republique? {Президент республики? (фр.) .} -- удивляется кухарка. Нянька долго стоит у дверей у притолоки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил. Наговорится, напечалится, съежится, будто меньше станет, и пойдет в детскую, к ночным думкам, к старушьим снам -- все о том же. Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через два месяца большевизму конец. Слушают аптекаря. И бледные, обращенные на восток души чуть розовеют. -- Ну, конечно, через два месяца. Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть! Привыкла к "пределам" человеческая душа и верит, что у страдания есть предел. Раненый умирал в страшных мучениях, все возрастающих. И никогда не забуду, как повторял он все одно и то же, словно изумляясь: -- Что же это? Ведь этого же не может быть! Может.