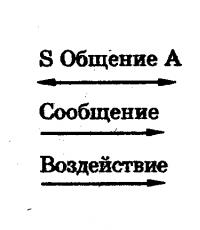Карл Густав Юнг. Психология и поэтическое творчество (1930)
Зигмунд Фрейд
(74)…[Во взглядах Фрейда необходимо] подчеркнуть и особо выделить его явно обусловленный временем скепсис по отношению ко всем идеалам девятнадцатого века или, по крайней мере, к большинству из них. Это то прошлое, которое составляет духовный фон, совершенно необходимый для верного представления о Фрейде…
…Фрейд был великим разрушителем, но наступление (75) нового столетия давало столько возможностей для ломки, что даже Ницше было для этого недостаточно. Фрейду оставалось недоломанное, и им-то он занялся основательно. Он пробудил целительное недоверие и тем самым косвенным образом способствовал обострению чувства подлинных ценностей. Мечты о благородном человеке, затуманившие головы людей с тех пор, как они перестали воспринимать догмат о первородном грехе, развеялись в немалой степени под влиянием Фрейда. А то, что от этих мечтаний еще все-таки осталось, окончательно, как можно надеяться, будет истреблено варварством XX в. Фрейд не был пророком, но был фигурой пророческой. В нем, как и в Ницше, возвещает о себе гигантомахия наших дней, когда проясняется и выяснится окончательно, настолько ли подлинны наши высшие ценности, чтобы их свет не угас в водах Ахеронта. Недоверчивое отношение к нашей культуре с присущими ей ценностями является неврозом нашего времени… Уходя, девятнадцатый век оставил нам…наследство из такого большого числа сомнительных утверждений, что сомнение не только возможно, но и оправданно и даже полезно. То, что в них равнозначно золоту, можно обнаружить лишь одним способом: пусть они пройдут испытание огнем…
… Если уж критический разум учит нас, что в некоторых отношениях мы (76) инфантильны и неразумны или что каждая религиозная надежда иллюзорна, то что нам делать с нашим неразумием и что заменит нам разрушенную иллюзию? В детской непосредственности заключается необходимое для творчества отсутствие заранее данных ограничителей, а иллюзия есть естественное проявление жизни. И та и другая нигде и никогда не подчиняются договорно обусловленным критериям разумности и полезности, как и не поддаются размену на них.
Психология Фрейда развивается в узких границах материалистической предпосылки науки уходящего XIX в.; она никогда не отдавала себе отчет в своей исходной философской позиции, что, конечно, объясняется недостаточной философичностью самого мэтра. Поэтому она неизбежно попала под влияние связанных определенным временем и местом предрассудков и антипатий - и различные критики уже указывали на это обстоятельство.
…Лишь сомнение рождает научную истину. И кто ведет борьбу против догм в высоком смысле, тот трагическим образом становится легкой жертвой частичных истин. Все, кто с участием следил за судьбой этого незаурядного человека, видели, как постепенно эта участь постигла и его, все больше ограничивая его интеллектуальный горизонт…
Памяти Рихарда Вильхельма
(79)…Труд его жизни столь велик, что я не берусь измерить эту величину. Я никогда и не видел того Китая, который, некогда сформировав его, позднее постоянно присутствовал в его душе… Я как бы чужеземцем стою вне того огромного круга знания и опыта, в котором Вильхельм участвовал как мастер своего дела…
(80) [С ним связано одно из] значительнейших переживаний моей жизни. Ради этого переживания я и отважился говорить О Вильхельме и его труде, с благодарностью чтя память того духа, который навел мосты между Востоком и Западом и завещал Европе бесценное наследие, быть может, обреченной на гибель тысячелетней культуры.
… Он, едва соприкоснувшись с тайной китайской души, учуял спрятанное для нас в ней сокровище и ради этой драгоценной жемчужины и пожертвовал своей европейской предубежденностью… Это могла быть лишь всеобъемлющая человечность, величие сердца, величие, угадывающее целое, давшее ему безоглядно открыть себя в корне чуждому духу… Его умная преданность - по ту сторону всяких христианских косых взглядов, по ту сторону всякой европейской пренебрежительности - уже свидетельство исключительно высокого духа: ведь все посредственности теряют себя либо в слепом самовыкорчевывании, либо в сколь неумной, столь же и заносчивой придирчивости. Ощупывая лишь верхние плоскости и внешние стороны чужой культуры, они не когда не вкусят хлеба и не пригубят вина этой чужой культуры, и на этом пути никогда не возникнет [духовное общение], той глубочайшей трансфузии и внутреннего вхождения, которые, зачиная, готовят новое рождение.
…Ученый-специалист, - это, как правило, всецело мужской дух, интеллект, для которого оплодотворение - чуждое и противоестественное дело, поэтому (81) он - на редкость негодное орудие для рождения чуждого духа в новой форме. Дух же более возвышенный несет в себе признаки женского начала, ему дано зачинающее и порождающее лоно, способное перетворить чуждое в знакомом обличье. Редкостная благодать духовного материнства была свойственна Вильхельму в полной мере. Ей он обязан своему доселе не имеющему себе равных дару вживания в дух Востока, дару, благодаря которому появились его несравненные переводы.
Величайшим из его достижений представляется мне перевод и комментарий «И Цзин». Прежде чем познакомиться с переводом Вильхельма, я долгое время работал с неудовлетворительным переводом Легга и потому в полной мере имел возможностьна опыте убедиться в их разительном отличии друг от друга. Вильхельму удалось датьэтому древнему трактату воскреснуть в новом, живом обличье - трактату, в котором не только многие синологи, но даже сами современные китайцы видят не более чем сборник бессмысленных заклинаний…
Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству
(94)…Только та часть искусства, которая охватывает процесс художественного образотворчества, может быть предметом психологии, а никоим образом не та, которая составляет собственное существо искусства; эта вторая его часть наряду с вопросом о том, что такое искусство само по себе, может быть предметом лишь эстетически-художественного, но не психологического рассмотрения.
…Искусство в своем существе - не наука, а наука в своем существе - не искусство; у каждой из этих двух областей духа есть свое неприступное средоточие, которое присуще только ей и может быть объяснено только через самое себя.
…К чему бы ни пришла психология в своем анализе искусства, все ограничится рассмотрением психических процессов художественной деятельности, без обращения к (95) интимнейшим глубинам искусства: затронуть их для психологии так же невозможно, как для разума - воспроизвести или хотя бы уловить природу чувства…
(99)…Золотое сияние высокого творчества, о котором, казалось бы, только и должна идти речь, меркнет после его обработки тем медицинским методом, каким анализируют обманчивую фантазию истерика. Подобный разбор, конечно, очень интересен и, пожалуй, имеет не меньшую научную ценность, чем вскрытие мозга Ницше, показавшее от какой редкой формы паралича он умер. Но и только. Разве это имеет какое-то отношение к «Заратустре»? Какими бы ни были второй план и подоплека творчества, (100) разве «Заратустра» - не цельный и единый мир, выросший по ту сторону «человеческой, слишком человеческой» слабости, по ту сторону мигреней и атрофии мозговых клеток?
(101)…. Фрейд неоправданно называет «символами», тогда как в его учении они играют роль просто знаков или симптомов подспудных процессов, а никоим образом не роль подлинных символов; последние надо понимать как выражение для идеи, которую пока еще невозможно обрисовать иным или более совершенным образом. Когда Платон, например, выражает всю проблему гносеологии в своем символе пещеры или когда Христос излагает понятие Царства Божия в своих притчах, то это - подлинные и нормальные символы, а именно попытки выразить вещи, для которых еще не существует словесного понятия. Если бы мы попытались истолковать платоновский образ по Фрейду, то, естественно, пришли бы к материнскому чреву и констатировали бы, что даже дух Платона еще глубоко погружен в изначальную и, больше того, инфантильно-сексуальную стихию. Но зато мы совершенно не заметили бы, что Платону удалось творчески создать из общечеловеческих предпосылок в своих философских созерцаниях; мы поистине слепо прошли бы у него мимо самого существенного и единственно лишь открыли бы, что, подобно всем другим нормальным смертным, он имел инфантильно-сексуальные фантазии…
Психология и поэтическое творчество
(123)…Материнское лоно всех наук, как и любого произведения искусства, - душа.
(127)…[В «Фаусте» любовная трагедия первой части] объясняет себя сама, в то время, как вторая часть требует работы истолкователя. Применительно к первой части психологу ничего не остается прибавить к тому, что уже сумел сказать поэт; напротив, вторая часть со своей неимоверной феноменологией до такой степени поглотила или даже превзошла изобразительную способность поэта, что здесь уже ничто не объясняет себя само непосредственно, но от стиха к стиху возбуждает потребность читателя в истолковании. Пожалуй, «Фауст» лучше, чем что бы то ни было другое, дает представление о двух крайних возможностях литературного произведения в его отношении к психологии.
Ради ясности я хотел бы обозначить первый тип творчества как психологический, а второй - как визионерский. Психологический тип имеет в качестве своего материала такое содержание, которое движется в пределах досягаемости человеческого сознания, как-то: жизненный опыт, определенное потрясение, страстное переживание, вообще человеческую судьбу, как ее может постигнуть или хотя бы прочувствовать обычное сознание. Этот материал воспринимается душой поэта, поднимается из сферы повседневности к вершинам его переживания и так оформляется, что вещи сами по себе привычные, воспринимаемые лишь глухо или неохотно и в силу этого также избегаемые или упускаемые из виду, убеждающей силой художественной экспрессии оказываются перемещенными в самый освещенный пункт читательского сознания и побуждают читателя к большей ясности и более последовательной человечности….Поэт уже выполнил за психолога всю работу. Или последнему нужно еще обосновывать, почему Фауст влюбляется в Гретхен? Или почему Гретхен становится детоубийцей? Все это - человеческая судьба, миллионы раз повторяющаяся вплоть до жуткой монотонности судебного зала или уголовного кодекса. Ничто не осталось неясным, все убедительно объясняет себя из себя самого.
(129)…Пропасть, которая лежит между первой и второй частями «Фауста», отделяет также психологический тип художественного творчества от визионерского типа. Здесь дело во всех отношениях обстоит иначе: материал, т. е. переживание, подвергающееся художественной обработке, не имеет в себе ничего, что было бы привычным; он наделен чуждой нам сущностью, потаенным естеством, и происходит он как бы из бездн дочеловеческих веков или из миров сверхчеловеческого естества, то ли светлых, то ли темных, - некое первопереживание, перед лицом которого человеческой природе грозит полнейшее бессилие и беспомощность. Значимость и весомость состоят здесь в неимоверном характере этого переживания, которое враждебно и холодно или важно и торжественно встает из вневременных глубин; с одной стороны, оно весьма двусмысленного, демонически-гротескного свойства, оно ничего не оставляет от человеческих ценностей и стройных форм - какой-то жуткий клубок извечного хаоса или, голворя словами Ницше, какое-то «оскорбление величества рода человеческого», с другой же стороны, перед нами откровение, высоты и глубины которого человек не может даже представить себе, или (130) красота, выразить которую бессильны любые слова. [Переживание этого рода] снизу доверху раздирает завесу, расписанную образами космоса, и дает заглянуть в непостижимые глубины становящегося и еще не ставшего. Куда, собственно, в состояние помраченного духа? в изначальные первоосновы человеческой души? в будущность нерожденных поколений? На эти вопросы мы не можем ответить ни утверждением, ни отрицанием.
Винсент Ван Гог (1853г-1890г). «Пшеничное поле с воронами», (1890г)
Художественный импульс очевиден на всём протяжении истории человечества: от «примитивного» пещерного искусства эпохи верхнего палеолита к внедрению перспективы и ракурса в эпоху Возрождения и, наконец, к правилам, которые будут извращаться до неузнаваемости современными художниками, стремящимися выразить новые пути видения и открыть эпоху визуальных экспериментов. Искусство вездесуще в современном мире, так как общество состоит из его создателей и потребителей. Оно как средство для выражения наших сокровенных мыслей и желаний, среда, через которую можно уйти к новым реалиям и эмоциям .
Что же подталкивает нас к созданию произведений искусства? Существует ли психологический двигатель, подсознательная сила, которая доходит до точки кипения и находит выход в результате творческого взрыва? В чем состоит внутренняя суть этого процесса, что воплощает нашу склонность самовыражаться через искусство?
Беглый взгляд на некоторых гениев в области художественного искусства утверждает нас в мысли, что есть в творческом духе нечто близкое к безумству. Что искусство неразрывно связано с сумасшествием, а великие произведения выступали в качестве катарсиса, очищающего и облагораживающего дух, без чего художник оказался бы в изоляции.
Увлеченность связью между психическими заболеваниями и творчеством появилась в конце 19 века. Повышенный творческий потенциал можно рассмотреть, как состояние души, которое сегодня чаще всего ассоциируется с биполярным расстройством - когда вдохновение появляется из колебания между состоянием эйфории и депрессии.
Художник как сторонний наблюдатель
Винсент Ван Гог , пожалуй, самый знаменитый пример «безумного художественного гения ». Искусствоведы часто говорят о нем как о человеке, страдавшем от маниакально-депрессивного психоза, чьи письма ставят под сомнение его вменяемость. Первопричина психического состояния Ван Гога горячо обсуждается по сей день. Среди возможных объяснений: порфириновая болезнь, шизофрения, третичный сифилис, отравление свинцом и пристрастие к абсенту. Среди других художников, пристрастившихся к абсенту, были Мане, Дега и Тулуз-Лотрек, а также ряд писателей конца 19 века. Немецкий поэт Райнер Мария Рильке однажды написал: «Он увидел, как его стакан абсента растёт и растёт, пока не почувствовал себя в центре его опалового света, невесомый, полностью растворённый в этой странной атмосфере ». Психотропные препараты, изменяющие сознание, играли определенную роль в создании искусства.
Какими бы ни были причины психического состояния Ван Гога, в его работах отразилось колебание между нормой и безумием, как если бы завитки цвета выступали мерой контроля над реальностью. Ван Гог сам сказал: «Это правда, что многие художники психически больны - это жизнь, которая, мягко говоря, делает тебя сторонним наблюдателем. Я в порядке, когда полностью погружен в работу, но я всегда буду оставаться на половину сумасшедшим ». В конечном итоге он покончил с жизнью, выстрелив себе в грудь в область сердца, вскоре после написания полотна «Пшеничное поле с воронами », которое оказалось предвестником его самоубийства.
Психолог Карл Юнг рассматривал психологические корни художественного творчества в современном мире в ряде эссе и лекциях, собранных в книге «Дух в человеке, искусстве и литературе ». Как мы прогрессируем из примитивного состояния, под которым Юнг воспринимал творчество, науку и религию, сливающихся в «недифференцированный хаос волшебного менталитета », к культурному и художественному климату, знакомому в современном мире? Каким образом не искусство, а его символическое содержание отражает, казалось бы, бурную психологическую природу художника? Можно ли использовать искусство, чтобы расшифровать художника?
Творческий порыв
Юнг считал, что само искусство не имеет внутреннего смысла, предполагая, что, возможно, оно походит на природу – что-то, что просто «есть». Но творческий процесс - совсем иное. Юнг утверждал, что произведения искусства возникают из почти таких же психологических условий, что и невроз. Подобно всем неврозам это сознательное содержание, имеющее бессознательный фон, который в своём художественном проявлении часто выходит за рамки индивидуума в нечто более глубокое и более широко отражающее человечество. Юнг предложил аналогию, согласно которой «личные причины имеют так много и так мало общего с произведением искусства, что и почва с растением, которое из неё произрастает ». Истинное искусство - что-то «сверхличное », сила, которая «сбежала из субъективного ограничения и выросла за рамки личных интересов ее создателя » .
Юнг признавал, что не всякое искусство берет свое начало в этой манере. Оно может происходить из преднамеренного процесса, направленного на достижение конкретного выражения, для которого художник находился в единении с творческим процессом. Но для Юнга, увлечение закрадывалось в художника, который повиновался внешним импульсам, работа сама навязывала себя автору. Внешняя сила завладевала художником, как марионеткой. Это творческий импульс, действующий на сознание художника на подсознательном уровне.
Для великих художников этот импульс может быть всепоглощающим. Как справедливо заметил Юнг, «из биографий великих мастеров становится совершенно очевидно, что творческий порыв часто настолько властен, что сковывает человека и заставляет жертвовать всем для служения работе, даже здоровьем и человеческим счастьем» . Биографии Бетховена, Марселя Пруста и многих других свидетельствуют о том, что творческий процесс как «живое существо, имплантированное в человеческую психику» .
Для Бетховена сочинение было принуждением, когда будучи зажатым в тиски депрессии, страдая от глубокой глухоты, его деятельность, пожалуй, достигла апогея, воплотившись в возвышенных поздних струнных квартетах. Пруст испытывал острую потребность писать. Ведя затворнический образ жизни из-за прогрессирующей болезни, он на протяжении многих лет неустанно трудился над циклом романов «В поисках утраченного времени ». Выдающееся произведение стало продуктом непреходящей навязчивой идеи .
Говоря тысячью голосами
Юнг считал, что автономная суть творческого импульса, как чего-то, действующего вне сознания, находит свое отражение в символической природе искусства. Символы выражают неизвестное, намекают на что-то за пределами нашего понимания. Юнг верил, что они имеют глубокие исторические корни; первичные изображения из сферы бессознательного отразились в мифологии. Творческий процесс управляет художником, чтобы извлечь эти изображения из коллективного бессознательного и представить нам в виде архетипических символов. Для Юнга это был мощный психологический феномен: «Тот, кто говорит исконными изображениями, говорит тысячью голосами » .
В конечном счете, Юнг придал этому процессу одно из важнейших социальных значений, где сотворенные первичные образы «служили для постоянного воспитания духа эпохи ». Дальновидные произведения художественно выражали нечто запредельное, связывая бессознательное и сознательное, прошлое и настоящее. Это сила, которая действует вне рационального и приближается к возвышенному и бесконечному. Искусство, предлагающее нам «открыть высоту и глубину за пределами нашего понимания или видения красоты, которую мы никогда не сможем выразить словами» .
Искусство - также мощный инструмент для понимания индивидуальной природы подсознания. Юнг часто интегрировал его в процессе аналитической психологии. Он предлагал пациентам рисовать и описывать свои сны, использовать активное воображение, в котором объединялись образы и смысл, чтобы разгадать символику и достичь согласованности с травмами и эмоциональными расстройствами. Карл Юнг и сам рисовал, он провел большую часть жизни, пытаясь объединить свое понимание духовных и эзотерических традиций, особенно христианство, гностицизм и алхимию, а также его собственное бессознательное в картинах и иллюстрациях. Искусство и творчество как метод терапии использовались ещё до Юнга (метод зародился в далеком прошлом и имеет шаманское происхождение), но вклад швейцарского психиатра в значение арт-терапии бесспорен.
(123)…Материнское лоно всех наук, как и любого произведения искусства, - душа.
(127)…[В «Фаусте» любовная трагедия первой части] объясняет себя сама, в то время, как вторая часть требует работы истолкователя. Применительно к первой части психологу ничего не остается прибавить к тому, что уже сумел сказать поэт; напротив, вторая часть со своей неимоверной феноменологией до такой степени поглотила или даже превзошла изобразительную способность поэта, что здесь уже ничто не объясняет себя само непосредственно, но от стиха к стиху возбуждает потребность читателя в истолковании. Пожалуй, «Фауст» лучше, чем что бы то ни было другое, дает представление о двух крайних возможностях литературного произведения в его отношении к психологии.
Ради ясности я хотел бы обозначить первый тип творчества как психологический, а второй - как визионерский. Психологический тип имеет в качестве своего материала такое содержание, которое движется в пределах досягаемости человеческого сознания, как-то: жизненный опыт, определенное потрясение, страстное переживание, вообще человеческую судьбу, как ее может постигнуть или хотя бы прочувствовать обычное сознание. Этот материал воспринимается душой поэта, поднимается из сферы повседневности к вершинам его переживания и так оформляется, что вещи сами по себе привычные, воспринимаемые лишь глухо или неохотно и в силу этого также избегаемые или упускаемые из виду, убеждающей силой художественной экспрессии оказываются перемещенными в самый освещенный пункт читательского сознания и побуждают читателя к большей ясности и более последовательной человечности….Поэт уже выполнил за психолога всю работу. Или последнему нужно еще обосновывать, почему Фауст влюбляется в Гретхен? Или почему Гретхен становится детоубийцей? Все это - человеческая судьба, миллионы раз повторяющаяся вплоть до жуткой монотонности судебного зала или уголовного кодекса. Ничто не осталось неясным, все убедительно объясняет себя из себя самого.
(129)…Пропасть, которая лежит между первой и второй частями «Фауста», отделяет также психологический тип художественного творчества от визионерского типа. Здесь дело во всех отношениях обстоит иначе: материал, т. е. переживание, подвергающееся художественной обработке, не имеет в себе ничего, что было бы привычным; он наделен чуждой нам сущностью, потаенным естеством, и происходит он как бы из бездн дочеловеческих веков или из миров сверхчеловеческого естества, то ли светлых, то ли темных, - некое первопереживание, перед лицом которого человеческой природе грозит полнейшее бессилие и беспомощность. Значимость и весомость состоят здесь в неимоверном характере этого переживания, которое враждебно и холодно или важно и торжественно встает из вневременных глубин; с одной стороны, оно весьма двусмысленного, демонически-гротескного свойства, оно ничего не оставляет от человеческих ценностей и стройных форм - какой-то жуткий клубок извечного хаоса или, голворя словами Ницше, какое-то «оскорбление величества рода человеческого», с другой же стороны, перед нами откровение, высоты и глубины которого человек не может даже представить себе, или (130) красота, выразить которую бессильны любые слова. [Переживание этого рода] снизу доверху раздирает завесу, расписанную образами космоса, и дает заглянуть в непостижимые глубины становящегося и еще не ставшего. Куда, собственно, в состояние помраченного духа? в изначальные первоосновы человеческой души? в будущность нерожденных поколений? На эти вопросы мы не можем ответить ни утверждением, ни отрицанием.
…Воплощенье, перевоплощенье,
Живого духа вечное вращенье…
Первовидение мы встречаем в «Поимандре», в «Пастыре Гермы», у Данте, во второй части «Фауста», в дионисийском переживании Ницше, в произведениях Вагнера («Кольцо Нибелунга», «Тристан», «Парсифаль»), в «Олимпийской весне» Шпиттелера, в рисунках и стихотворениях Уильяма Блейка, в «Гипнеротомахии» монаха Франческо Колонна, в философско-поэтическом косноязычии Якоба Беме и в порой забавных, порой грандиозных образах гофманова «Золотого горшка». В более ограниченной (131) и сжатой форме подобное же переживание составляет существенный мотив у Райдера Хаггарда - в той мере, в какой его сочинения группируются вокруг повести «Она», - у Бенуа (прежде всего «Атлантида»), у Кубина («Другая сторона»), у Майринка (прежде всего его «Зеленое лицо», которое не следует недооценивать), у Гетца («Царство без пространства»), у Барлаха («Мертвый день») и др.
(132)… Поразительно, что очень резко контрастируя с материалом психологического творчества, над происхождением визионерского материала разлит глубокий мрак - мрак, относительно которого многим хочется верить, что его можно сделать прозрачным. Точнее, люди естественным образом склонны предполагать - сегодня это усилилось под влиянием психологии Фрейда, - что за всей этой то уродливой, то вещей мглой должны стоять какие-то чрезвычайно личные переживания, из которых можно объяснить странное видение хаоса и которые также делают понятным, почему иногда поэт, как кажется, еще и сознательно стремится скрыть происхождение своего переживания. От этой тенденции истолкования всего один шаг до предположения, что речь идет о продукте болезни, продукте невроза; этот шаг представляется тем менее неправомерным, что визионерскому материалу свойственны некоторые особенности, которые можно встретить также в фантазиях душевнобольных. Равным образом продукт психоза нередко наделен такой веской значительностью, которая встречается разве что у гения. Отсюда естественным образом возникает искушение рассматривать весь феномен в целом под углом зрения патологии и объяснять образы неразложимого видения как орудия компенсации и маскировки. Представляется, что этому явлению, обозначаемому мной как «первовидение», предшествовало некоторое переживание личного и интимного характера, переживание, отмеченное печатью «инкомпатибельности», т. е. несовместимости с определенными моральными категориями. Делается предположение, что проблематичное событие было, например, любовным переживанием такого морального или эстетического свойства, что оказались несовместимым или с личностью в целом, или, по меньшей мере, с функцией сознания, (133) по каковой причине Я поэта стремилось целиком или хотя бы в существенных частях вытеснить это переживание и сделать его невидимым («бессознательным»). Для этой цели, согласно такой точки зрения, и мобилизуется весь арсенал патологической фантазии, поскольку же этот порыв представляет собой не дающую удовлетворения попытку компенсации, то он обречен возобновляться вновь и вновь в почти бесконечных рядах творческих продуктов. Именно таким образом будто бы и возникло все непомерное изобилие пугающих, демонических, гротескных и извращенных образов - отчасти для компенсации неприемлемого переживания, отчасти же для его сокрытия…
…Сведение визионерского переживания к личному опыту делает это переживание чем-то ненастоящим, простой компенсацией. При этом визионерское содержание теряет свой «характер изначальности», «изначальное видение» становится симптомом, а хаос снижается до уровня психической помехи. Объяснение мирно покоится в пределах упорядоченного космоса, относительно которого практический разум никогда не постулировал совершенства… Потрясающее прозрение в бездны, лежащее по ту сторону человеческого, оказывается всего-навсего иллюзией, а поэт - обманутым обманщиком…
(135)…В том, что касается произведения…нет сомнения, что визионерство есть подлинное первопереживание, что бы ни полагали на этот счет поборники рассулка.
(136)…Здесь перед нами психическая реальность, которая по меньшей мере равноценна физической… В чувстве мы переживаем нечто знакомое, но вещее чаяние ведет нас к неизвестному и сокровенному, к вещам, которые таинственны по своей природе… Что же, мы только воображаем, что наши души находятся в нашем обладании и управлении, а в действительности то, что наука именует «психикой» и представляет себе как заключенный в черепную коробку знак вопроса, в конечном счете есть открытая дверь, через которую из нечеловеческого мира время от времени входит нечто неизвестное и непостижимое по своему действию, чтобы в своем ночном полете вырывать людей из сферы человеческого и принуждать служить своим целям? Положительно может показаться, что любовное переживание иногда просто высвобождает силы, мало того, что оно бессознательно «аранжировано» для определенной цели, так что личностное приходится рассматривать (137) как своего рода затакт к единственно важной «божественной комедии»…
(139)… Первопереживание лишено слов и форм, ибо это есть видение «в темном зерцале». Это всего лишь необычайно сильное предчувствие, которое рвется к соему выражению. Оно подобно вихрю, который овладевает всеми встречными предметами и, вовлекая их в свой порыв, через них приобретает зримый образ. Но поскольку выражение никогда не может достичь полноты видения и исчерпать его безграничность, поэт нуждается в подчас прямо-таки неимоверном материале, чтобы хоть отдаленно передать то, что ему примерещилось, и при этом не может обойтись без диковинных и самопротиворечивых форм, ибо иначе он не способен выявить жуткую парадоксальность своего визионерского переживания…
(143)… Тайна творческого начала, так же как и тайна свободы воли, есть проблема трансцендентная, которую психология может описать, но не разрешить. Равным образом и творческая личность - это загадка, к которой можно, правда, приискивать отгадку при посредстве множества разных способов, но всегда безуспешно.
(145)… Каждый творчески одаренный человек - это некоторая двойственность или синтез парадоксальных свойств. С одной стороны, он представляет собой нечто человечески личное, с другой - это внеличностный, творческий процесс.
(146)… Искусство прирожденно художнику как инстинкт, который им овладевает и делает его своим орудием. То, что в первую очередь оказывается в нем субъектом воли, есть не он как индивид, но его произведение…
(147)… Очень редко встречается творчески одаренный индивид, которому не пришлось бы дорого оплатить искру божью - свои необычные возможности. Как будто каждый рождается с неким капиталом жизненной энергии, заранее ограниченным. Самое сильное в нем, его собственное творческое начало, пожирает большую часть его энергии, если он действительно художник…Человек оказывается обычно настолько обескровленным ради своего творческого начала, что может как-то жить лишь на примитивном или вообще сниженном уровне…
(151)…[Мы можем понять прапереживания поэта так: ] он прикоснулся к тем целительным и спасительным глубинам, в которых еще никто сам по себе не уединился до одиночества сознания, чтобы ступить на мучительный путь блужданий, в которых еще все охвачены одной волной, а потому ощущения и действия отдельного человека погружены во все человечество.
Обратное погружение в изначальное состояние «participation mystique» [мистическая сопричастность] - тайна художественного творчества и воздействия искусства, потому что на этой ступени переживает уже не отдельный человек, но народ, и речь там идет уже не о благе или беде отдельного человека, но о жизни народа…
Психология, будучи наукой о душевных процессах, может быть поставлена в связь с литературоведением. Ведь материнское лоно всех наук, как и любого произведения искусства, – душа. (...)
Психологический подход к литературному произведению отличается от литературоведческого подхода. Ценности и факты, имеющие решающие значение для первого, могут оказаться для второго как бы несущественными; так, сочинения весьма сомнительной литературной ценности нередко представляются психологу особо интересными. Так называемый психологический роман не дает ему так много, как ожидает от него литературоведческий подход. Такой роман (...) объясняет себя самого, он есть (…) своя собственная психология, которую психологу остается в лучшем случае дополнить или подвергнуть критике (…).
Напротив, именно роман, чуждый психологических претензий, открывает для психологического высвечивания особые возможности(…).
Ради ясности я хотел бы обозначить первый тип творчества как психологический, а второй - как визионерский. Психологический тип имеет в качестве своего материала такое содержание, которое движется в пределах досягаемости человеческого сознания, как-то: жизненный опыт, определенное потрясение, страстное переживание, вообще человеческую судьбу, как ее может постигнуть или хотя бы прочувствовать обычное сознание. Этот материал воспринимается душой поэта, поднимается из сферы повседневности к вершинам его переживания и так оформляется, что вещи, сами по себе привычные, воспринимаемые лишь глухо или неохотно и в силу этого также избегаемые или упускаемые из виду, убеждающей силой художественной экспрессии оказываются перемещенными в самый освещенный пункт читательского сознания и побуждают читателя к большей ясности и более последовательной человечности. Изначальный материал такого творчества происходит из сферы вечно повторяющихся скорбей и радостей; он сводится к содержанию человеческого сознания, которое истолковывается и высветляется в своем поэтическом оформлении. Поэт уже выполнил за психолога всю работу. (…) Ничто не осталось неясным, все убедительно объясняет себя из себя самого.
На этой линии находятся многочисленные типы литературной продукции: любовный, бытовой, семейный, уголовный и социальный романы, дидактическое стихотворение, большая часть лирических стихотворений, трагедия и комедия. Какова бы ни была художественная форма этих произведений, содержание психологического художественного творчества происходит неизменно из областей человеческого опыта, из психологического переднего плана, наполненного наиболее сильными переживаниями. Я называю этот род художественного творчества «психологическим» именно по той причине, что он вращается всегда в границах психологически понятного. Все от переживания и до творческого оформления проходит в сфере прозрачной психологии. Даже психологически изначальный материал переживания не имеет в себе ничего необычного; напротив, здесь то, с чем мы в наибольшей степени свыклись, страсть и ее судьбы, судьбы и вызываемые ими страдания, вечная природа человека с ее красотами и ужасами. (…)
Пропасть, которая лежит между первой и второй частями «Фауста», отделяет также психологический тип художественного творчества от визионерского типа. Здесь дело во всех отношениях обстоит иначе: материал, т. е. переживание, подвергающееся художественной обработке, не имеет в себе ничего, что было бы привычным; он наделен чуждой нам сущностью, потаенным естеством, и происходит он как бы из бездн дочеловеческих веков или из миров сверхчеловеческого естества, то ли светлых, то ли темных, – некое первопереживание, перед лицом которого человеческой природе грозит полнейшее бессилие и беспомощность. Значимость и весомость состоят здесь в неимоверном характере этого переживания, которое враждебно и холодно или важно и торжественно встает из вневременных глубин; с одной стороны, оно весьма двусмысленного, демонически-гротескного свойства, он ничего не оставляет от человеческих ценностей и стройных форм – какой-то жуткий клубок извечного хаоса или, говоря словами Ницше, какое-то «оскорбление величества рода человеческого», с другой же стороны, перед нами откровение, высоты и глубины которого человек не может даже представить себе, или красота, выразить которую бессильны любые слова. Потрясающее зрелище мощного явления повсюду выходит за пределы человеческого восприятия и, разумеется, предъявляет художественному творчеству иные требования, нежели переживание переднего плана. Последнее никогда не раздирает космической завесы; оно никогда не ломает границы человечески возможного и как раз по этой причине, вопреки всем потрясениям, которые оно означает для индивида, легко поддается оформлению по законам искусства. Напротив, переживание второго рода снизу доверху раздирает завесу, расписанную образами космоса, и дает заглянуть в непостижимые глубины становящегося и еще не ставшего. Куда, собственно: в состояние помраченного духа? В изначальные первоосновы человеческой души? В будущность нерожденных поколений? На эти вопросы мы не можем ответить ни утверждением, ни отрицанием. (..)
В отношении материала психологического творчества не возникает вопрос, из чего он состоит или что он должен означать. Но здесь, перед лицом визионерского неразложимого переживания, этот вопрос встает самым непосредственным образом. Читатель требует комментариев и истолкований; он удивлен, озадачен, растерян, недоверчив или, еще того хуже, испытывает отвращение. Ничто из области дневной жизни человека не находит здесь отзвука, но взамен этого оживают сновидения, ночные страхи и жуткие предчувствия темных уголков души. Публика в своем подавляющем большинстве отвергает такой материал, если только он не связан с грубой сенсацией, и даже цеховой знаток литературы нередко выдает свое замешательство. (…) Поразительно, что, очень резко контрастируя с материалом психологического творчества, происхождение визионерского материала скрывается в глубоком мраке – мраке, относительно которого многим хочется верить, что его можно сделать прозрачным. Точнее, люди естественным образом склонны предполагать (сегодня это усилилось под влиянием психологии Фрейда), что за всей этой то уродливой, то вещей мглой должны стоять какие-то чрезвычайно личные переживания, из которых можно объяснить странное видение хаоса и которые также делают понятным, почему иногда поэт, как кажется, еще и сознательно стремится скрыть происхождение своего переживания. От этой тенденции истолкования всего один шаг до предположения, что речь идет о продукте болезни, продукте невроза; этот шаг представляется тем менее неправомерным, что визионерскому материалу свойственны некоторые особенности, которые можно встретить также в фантазиях душевнобольных. Равным образом продукт психоза нередко наделен такой веской значительностью, которая встречается разве что у гения. Отсюда естественным образом возникает искушение рассматривать весь феномен в целом под углом зрения патологии и объяснять образы неразложимого видения как орудия компенсации и маскировки. Представляется, что этому явлению, обозначаемому мной как «первовидение», предшествовало некоторое переживание личного и интимного характера, переживание, отмеченное печатью несовместимости с определенными моральными категориями. Делается предположение, что проблематичное событие было, например, любовным переживанием такого морального или эстетического свойства, что оказалось несовместимым или с личностью в целом, или по меньшей мере с функцией сознания, по каковой причине Я поэта стремилось целиком или хотя бы в существенных частях вытеснить это переживание и сделать его невидимым («бессознательным»). Для этой цели, согласно такой точке зрения, и мобилизуется весь арсенал патологической фантазии; поскольку же этот порыв представляет собой не дающую удовлетворения попытку компенсации, то он обречен возобновляться вновь и вновь в почти бесконечных рядах творческих продуктов. Именно таким образом будто бы и возникло все непомерное изобилие пугающих, демонических, гротескных и извращенных образов – отчасти для компенсации «неприемлемого» переживания, отчасти для его сокрытия. (…)
Сведение визионерского переживания к личному опыту делает это переживание чем-то ненастоящим, простой компенсацией. При этом визионерское содержание теряет свой «характер изначальности», «изначальное видение» становится симптомом, и хаос снижается до уровня психического расстройства. Объяснение мирно покоится в пределах упорядоченного космоса (...). Потрясающее прозрение в бездны, лежащие по ту сторону человеческого, оказывается всего-навсего иллюзией, а поэт - обманутым обманщиком. Его изначальное переживание было «человеческим, слишком человеческим», и притом до такой степени, что он даже не способен в этом себе признаться, но вынужден скрывать это от себя. (…)
Визионерство есть подлинное первопереживание, что бы ни полагали на этот счет поборники рассудка. Оно не представляет собой нечто производное, нечто вторичное, некий симптом, нет, оно есть истинный символ, иначе говоря, форма выражения для неведомой сущности. (...) Переживание человеческой страсти находится в пределах сознания, предмет визионерского лежит вне этих пределов. В чувстве мы переживаем нечто знакомое, но вещее чаяние ведет нас к неизвестному и сокровенному, к вещам, которые таинственны по самой своей природе. Если они когда-либо и были познаны, то их намеренно скрывали и утаивали, и поэтому им с незапамятных времен присущ характер тайны, жути и сокрытия. Они скрыты от человека, а он из суеверия, буквально «боязни демонов», прячется от них, укрываясь за щит науки и разума. Космос есть его дневная вера, которая призвана уберечь его от ночных страхов хаоса, – просвещение из страха перед ночной верой! Что же, и за пределами человеческого дневного мира живут и действуют силы? Действуют с необходимостью, с опасной неизбежностью? (…) Что же, мы только воображаем, что наши души находятся в нашем обладании и управлении, а в действительности то, что наука именует «психикой» и представляет себе как заключенный в черепную коробку знак вопроса, в конечном счете есть открытая дверь, через которую из нечеловеческого мира время от времени входит нечто неизвестное и непостижимое по своему действию, чтобы в своем ночном полете вырывать людей из сферы человеческого и принуждать служить своим целям? (...)
Художественное произведение такого рода представляет собой не единственное порождение ночной сферы. К ней приближаются также духовидцы и пророки (…). Но с этой сферой знакомы также великие злодеи и разрушители, омрачающие лицо времен, и умалишенные, которые слишком близко подошли к огню. (…) Притом же эта сфера, какой бы темной и бессознательной она ни была, сама по себе не представляет ничего неизвестного, но известна с незапамятных времен и повсеместна. Для дикаря она составляет саму собой разумеющуюся составную часть его картины мира, только мы из отвращения к суевериям и их страха перед метафизикой исключили ее, дабы построить по видимости прочный и сподручный мир сознания, в котором законы природы имеют такую же силу, как человеческие законы в упорядоченном государстве. Но поэт время от времени видит образы ночного мира, духов, демонов и богов, тайное переплетение человеческой судьбы со сверхчеловеческим умыслом и непостижимые вещи (...).
Поэт обращается снова к мифологическим фигурам, чтобы подыскать для своего переживания отвечающее ему выражение. Представлять себе дело так, будто он просто работает с этим доставшимся ему по наследству материалом, значило бы все исказить; на деле он творит исходя из первопереживания, темное естество которого нуждается в мифологических образах, и потому жадно тянется к ним как к чему-то родственному, дабы выразить себя через них. Первопереживание лишено слов и форм, ибо это есть видение «в темном зерцале». Это всего лишь необычайно сильное предчувствие, которое рвется к своему выражению. Оно подобно вихрю, который овладевает всеми встречными предметами, вовлекая их в свой порыв, и через них приобретает зримый образ. Но поскольку выражение никогда не может достичь полноты видения и исчерпать его безграничность, поэт нуждается в подчас прямо-таки неимоверном материале, чтобы хоть отдаленно передать то, что ему примерещилось, и при этом он не может обойтись без диковинных и самопротиворечивых форм, ибо иначе он не способен выявить жуткую парадоксальность своего визионерского переживания. Данте растягивает свое переживание между всеми образами ада, чистилища и рая. Гёте понадобились Блоксберг и греческая преисподняя, Вагнеру - вся нордическая мифология и сокровища саги о Парцифале, Ницше вернулся к сакральному стилю, к дифирамбу и к сказочным провидцам древности, Блейк обратил себе на потребу индийские фантасмагории, образный мир Библии и апокалиптики, а Шпиттелер заимствует старые имена для новых образов, которые в почти устрашающем множестве извергаются из рога изобилия его поэзии. Не остается незанятой ни одна ступень на лестнице, ведущей от неизъяснимо-возвышенного к извращенно-гротескному.
Для понимания сущности этого пестрого феномена должна доставить терминологию и материал для сравнения прежде всего психология. То, что предстает в визионерском переживании, есть один из образов коллективного бессознательного, т. е. своеобразный и прирожденный компонент структуры той «души», которая является матрицей и предпосылкой сознания. По главному закону филогенеза психическая структура в точности так же, как и анатомическая, должна нести на себе метки пройденных прародителями ступеней развития. (...) Часто мифологические мотивы скрыты за современным образным языком, как-то: вместо Зевесова орла или птицы Рок выступает самолет, вместо сражения с драконом – железнодорожная катастрофа, вместо героя, поражающего дракона, – героический тенор из городской оперы, вместо хтонической Матери – толстая торговка овощами, а Плутон, похищающий Прозерпину, заменен опасным шофером. Но существенная и важная для литературоведения черта заключается в том, что проявления коллективного бессознательного в своем отношении к складу сознания имеют характер компенсации, т. е. односторонний, плохо связанный с действительностью или даже тревожный склад сознания через них должен обрести равновесие. (…)
Если мы для начала не будем считаться с предположением, что хотя бы «Фауст» есть личная компенсация для склада сознания Гёте, то возникает вопрос, в каком отношении подобная вещь находится к сознанию эпохи и не следует ли рассматривать это отношение опять-таки как компенсацию. Великое творение, порожденное душой человечества, было бы, по моему мнению, при этом исчерпывающе объяснено, если бы речь шла о его возведении к личному. Дело в том, что всякий раз, как коллективное бессознательное прорывается к переживанию и празднует брак с сознанием времени, осуществляется творческий акт, значимый для целой эпохи, ибо такое творение есть в самом глубинном смысле весть, обращенная к современникам. (…) Каждое время имеет свою однобокость, свои предубеждения и свою душевную жизнь. Временная эпоха подобна индивидуальной душе, она отличается своими особенностями, специфически ограниченными свойствами сознания, и поэтому требует компенсации, которая, со своей стороны, может быть осуществлена коллективным бессознательным лишь таким образом, что какой-нибудь поэт или духовидец выразит все невысказанное содержание времени и осуществит в образе или деянии то, что ожидает неосознанная всеобщая потребность, будет ли это сделано к добру или ко злу, к исцелению той эпохи или к ее погибели. (…)
Тайна творческого начала, так же как и тайна свободы воли, есть проблема трансцендентная, которую психология может описать, но не разрешить. Равным образом и творческая личность – это загадка, к которой можно, правда, приискивать отгадку при посредстве множества разных способов, но всегда безуспешно. И все же новейшая психология время от времени билась над проблемой художника и его творчества. Фрейду казалось, что он отыскал ключ, которым можно отпереть произведение искусства, идя от сферы личных переживаний его автора. В самом деле, здесь открываются очевидные возможности; почему бы и не попытаться вывести произведение искусства из «комплексов», наподобие того, как это делают с неврозами? Великое открытие Фрейда в том и состояло, что неврозы имеют совершенно определенную психическую этиологию, т.е. они имеют свой исток в эмоциональных причинах и в детских переживаниях реального или фантастического свойства. Нельзя отрицать, что в определенном отношении личная психология автора может быть прослежена вплоть до последних разветвлений его создания. Точка зрения, согласно которой личная сторона художника во многом предопределяет подбор и оформление его материала, сама по себе нисколько не нова. Но показать, как далеко простирается эта предопределенность и в каких своеобразных связях по аналогии она себя осуществляет, удалось лишь фрейдовской школе
Невроз, по Фрейду, представляет собой эрзац удовлетворения. Стало быть, нечто ненастоящее, ошибку, предлог, извинение, намеренную слепоту, короче говоря, нечто по сути своей негативное, то, чего не должно было бы быть. Трудно решиться замолвить за невроз доброе слово, ибо он, по всей видимости, не содержит в себе ничего, кроме бессмысленного и потому нежелательного расстройства. Художественное произведение, коль скоро его, по всей видимости, можно анализировать наподобие невроза и таким же образом возводить к чисто личным «вытеснениям» в психике автора, тем самым оказывается в подозрительном соседстве с неврозом; правда, оно при этом попадает все же в хорошее общество, ибо фрейдовский метод рассматривает таким же образом религию, философию и т. п. (…) Если выдвигается притязание, будто при таком анализе оказывается объясненной и сущность самого произведения искусства, то это притязание должно быть категорически отклонено. Дело в том, что сущность художественного произведения состоит не в его обремененности чисто личностными особенностями – чем больше оно ими обременено, тем меньше речь может идти об искусстве, – но в том, что оно говорит от имени духа человечества, сердца человечества и обращается к ним. Чисто личное – это для искусства ограниченность, даже порок. «Искусство», которое исключительно или хотя бы в основном личностно, заслуживает того, чтобы его рассматривали как невроз. Если фрейдовская школа выдвинула мнение, что каждый художник обладает инфантильно-автоэротически ограниченной личностью, то это может иметь силу применительно к художнику как личности, но неприменимо к нему как творцу. Ибо творец ни автоэротичен, ни гетероэротичен, ни как-либо еще эротичен, но в высочайшей степени объективен, существен, сверхличен, пожалуй, даже бесчеловечен или сверхчеловечен, ибо в своем качестве художника он есть свой труд, а не человек.
Каждый творчески одаренный человек – это некоторая двойственность, или синтез, парадоксальных свойств. С одной стороны, он представляет собой нечто человечески личное, с другой, – это внеличностный, творческий процесс. Как человек он может быть здоровым или болезненным; поэтому его личная психология может и должна подвергаться индивидуальному же объяснению. В своем качестве художника он может быть понят единственно из своего творческого деяния. (…) Хотя художник представляет собой противоположность всему официальному, все же между этими двумя случаями существует потаенная аналогия, коль скоро специфически художническая психология есть вещь коллективная и никак не личная. Ибо искусство прирождено художнику как инстинкт, который им овладевает и делает его своим орудием. То, что в первую очередь оказывается в нем субъектом воли, есть не он как индивид, но его произведение. В качестве индивида он может иметь прихоти, желания, личные цели, но в качестве художника он есть в высшем смысле этого слова «Человек», коллективный человек, носитель и ваятель бессознательно действующей души человечества. В этом его officium, бремя которого нередко до такой степени перевешивает остальное, что его человеческое счастье и все, что придает цену обычной человеческой жизни, закономерно должно быть принесено в жертву. (…)
При этих обстоятельствах менее всего удивительно, что именно художник (…) дает особенно обильный материал для психологического критического анализа. Его жизнь по необходимости переполнена конфликтами, ибо в нем борются две силы: обычный человек с его законными потребностями в счастье, удовлетворенности и жизненной обеспеченности, с одной стороны, и беспощадная творческая страсть, поневоле втаптывающая в грязь все его личные пожелания, – с другой. Отсюда проистекает то обстоятельство, что личная житейская судьба столь многих художников до такой степени неудовлетворительна, даже трагична, и притом не от мрачного сочетания обстоятельств, но по причине неполноценности или недостаточной приспособляемости человечески личного в них. Очень редко встречается творчески одаренный индивид, которому не пришлось бы дорого оплатить искру Божью (...). Как будто каждый рождается с неким капиталом жизненной энергии, заранее ограниченным. Самое сильное в нем, его собственное творческое начало, пожирает большую часть его энергии, если он действительно художник, а для прочего остается слишком мало, чтобы из этого остатка могла развиться в придачу еще какая-либо ценность. Напротив, человек оказывается обычно настолько обескровленным ради своего творческого начала, что может как-то жить лишь на примитивном или вообще сниженном уровне. Это обычно проявляется как ребячество и бездумность или как бесцеремонный, наивный эгоизм (...), как тщеславие и прочие пороки. Подобные несовершенства оправданны постольку, поскольку лишь таким образом Я может сэкономить достаточную жизненную силу. Оно нуждается в подобных низших формах существования, ибо в противном случае погибло бы от полного истощения. (…) Художник должен быть объяснен из своего творчества, а не из несовершенств своей натуры и не из личных конфликтов, которые представляют собой лишь прискорбные последствия того факта, что он – художник, т.е. такой человек, который несет более тяжелое бремя, чем простой смертный Повышенные способности требуют также и повышенной растраты энергии, так что плюс на одной стороне неизбежно должен сопровождаться минусом на другой
Знает ли сам художник-автор, что его творение в нем зачато и затем растет и зреет, или он предпочитает воображать, будто по собственному намерению оформляет собственное измышление: это ничего не меняет в том факте, что на деле его творение вырастает из него. Оно относится к нему, как ребенок к матери. Психология творческого индивида – это, собственно, женская психология, ибо творчество вырастает из бессознательных бездн, в настоящем смысле этого слова из царства Матерей. Если творческое начало перевешивает, то это означает, что бессознательное получает над жизнью и судьбой большую власть, чем сознательная воля, и что сознание захватывается мощным подземным потоком и нередко оказывается бессильным зрителем происходящего. Органически растущий труд есть судьба автора и определяет его психологию. Не Гёте делает «Фауста», но (...) «Фаустом» делается Гёте. А что такое «Фауст»? «Фауст» – это символ, не простое семиотическое указание на давным-давно знакомое или его аллегория, но выражение изначально-жизненного действующего начала в немецкой душе, рождению которого суждено было способствовать Гёте. Мыслимо ли, чтобы «Фауста» или «Так говорил Заратустра» написал не немец? Оба ясно намекают на одно и то же – на то, что вибрирует в немецкой душе, – фигуру целителя и учителя, с одной стороны, и зловещего колдуна, с другой; архетип мудреца, помощника и спасителя, с одной стороны, и мага, надувалы, соблазнителя и черта, с другой. Этот образ от века зарыт в бессознательном, где спит, покуда благоприятные или неблагоприятные обстоятельства эпохи не пробудят его. Это происходит тогда, когда великое заблуждение сбивает народ с пути истинного. Ибо где внезапно открываются скользкие дорожки, там становится нужен вождь, наставник и даже врачеватель. В виде компенсации, которая тогда, казалось бы, ускользнула от Мефистофеля, столетием позже был преподнесен кровавый счет. (…) Где пределы, в которых тогда следует рассматривать произведение искусства?
Архетип сам по себе ни добр, ни зол. Он есть морально индифферентное numen (…), которое становится таким или другим или противоречивой двойственностью обоих лишь через столкновение с сознанием. Этот выбор добра или зла умышленно или неумышленно следует из человеческой установки. Есть много таких праобразов, которые в совокупности до тех пор не появляются в сновидениях отдельных людей и в произведениях искусства, пока не возбуждаются отклонением сознания от среднего пути. Но когда сознание соскальзывает в однобокую и потому ложную установку, эти «инстинкты» оживают и посылают свои образы в сновидения отдельных людей и в видения художников и провидцев, чтобы тем самым восстановить душевное равновесие.
Так получает удовлетворение душевная потребность того или иного народа в творении поэта, и потому творение означает для поэта поистине больше, чем личная судьба, – безразлично, знает ли это он сам или нет. Автор представляет собой в глубочайшем смысле слова инструмент и в силу этого подчинен своему творению, по каковой причине мы не должны также, в частности, ждать от него истолкования последнего. Он уже исполнил свою высшую задачу, сотворив образ. Истолкование образа он должен поручить другим и будущему. Великое произведение искусства подобно сновидению, которое при всей своей наглядности никогда не истолковывает себя само и никогда не имеет однозначного толкования. Ни одно сновидение не говорит: «ты должен» или «такова истина»; оно выявляет образ, как природа выращивает растение, и уже нам предоставлено делать из этого образа свои выводы. Чтобы понять его смысл, нужно дать ему сформировать себя, как оно сформировало поэта. Тогда-то мы и поймем, что было его прапереживанием: он прикоснулся к тем целительным и спасительным душевным глубинам, в которых еще никто сам по себе не уединился до одиночества сознания, чтобы ступить на мучительный путь блужданий, и в которых еще все охвачены одной волной, а потому ощущения и действия отдельного человека еще погружены во все человечество.
Обратное погружение в изначальное состояние «participation mystique» – тайна художественного творчества и воздействия искусства, потому что на этой ступени переживания переживает уже не отдельный человек, но народ, и речь там идет уже не о благе или беде отдельного человека, но о жизни народа. Поэтому великое произведение искусства объективно, имперсонально, а все же глубочайшим образом затрагивает нас. Поэтому же личное начало в поэте только дает ему преимущество или воздвигает перед ним препятствие, но никогда не бывает существенным для его искусства. Его личная биография может быть биографией филистера, честного малого, невротика, шута или преступника: это интересно, и от этого нельзя уйти, но в отношении творца несущественно.