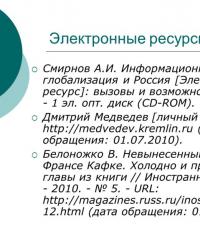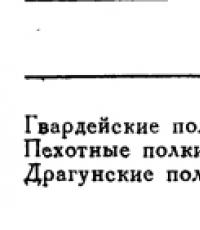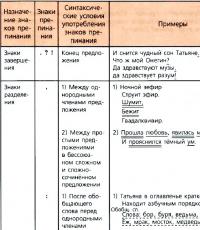Гарин-Михайловский Николай Георгиевич. Гимназисты
заглянул в Добролюбова, просмаковал введение Бокля, читал Щапова и запомнил,
что первичное племя, населявшее Россию, было курганное и череп имело
субликоцефалический.
Отношения Корнева и Карташева изменились: хотя споры не прекращались и
носили на себе все тот же страстный, жгучий характер, но в отношения
вкралось равенство. Карташева стала приглашать партия Корнева на свои
вечера: Карташев потянул за собой и свою компанию. Даже Семенов примирился,
бывал на чтениях и убедился, что там не происходит ничего, за что могло бы
последовать исключение кого бы то ни было из гимназии.
Берендя тоже с жаром и страстностью набросился на чтение и постепенно
приобрел некоторое уважение в кружке как человек начитанный, с громадною
памятью, как ходячая энциклопедия всевозможных знаний.
Иногда, если у компании хватало терпения, его дослушивали до конца, и
тогда из тумана высокопарных слов выплывала какая-нибудь оригинальная,
обобщенная и обоснованная мысль.
Корнев тогда задумывался, грыз ногти и пытливо заглядывал ему в глаза,
пока высокий Берендя, в позе танцора, подымаясь еще выше на носки и
осторожно прижимая руки к груди, спешно выкладывал перед всеми свои
соображения.
Только в глазах Вервицкого Берендя сохранил свой прежний вид дурня и
растеряхи в практической жизни. Впрочем, таким он и был в общежитейских
отношениях: был на счету у начальства неспособным, имел плохие отметки, по
математике из двойки не вылезал и только по истории имел круглую пятерку.
Историю, и особенно русскую, он любил до болезни. Обладая громадною памятью,
он помнил все года и перечитал массу исторических русских книг.
Барометр товарищеских отношений - Долба снисходительно трепал Берендю
по плечу и добродушно говорил:
- Бокль не Бокль, а дай же, боже, щоб наше теля да вивка съило.
Аглаида Васильевна добилась наконец своего. Однажды Карташев после
долгих колебаний (он все боялся, что не захотят к нему прийти) пригласил к
себе Корнева, Рыльского, Долбу и прежних своих приятелей - Семенова,
Вервицкого и Берендю.
Прежние приятели уже собрались и пили вечерний чай за большим семейным
столом, когда раздался звонок и в переднюю ввалились вновь прибывшие. Они
раздевались, переглядывались между собою и громко перебрасывались словами.
Рыльский, прежде чем войти, вынул чистенький гребешочек, причесал им и
без того свои гладкие, мягкие, золотистые волосы, оправил pince-nez, весело
покосился на замечание Корнева "хорош", проговорив "рыло", и первый вошел в
гостиную. Увидев общество в другой комнате, он уверенно направился туда.
За ним вошел Корнев, невозможно перекосив лицо и с каким-то особенно
глубокомысленным, сосредоточенным видом.
Сзади всех, покачиваясь, с оттенком какого-то пренебрежения и в то же
время конфузливости, шел Долба, потирая руки и ежась, точно ему было
холодно.
Карташев вышел в гостиную навстречу гостям и сконфуженно пожал им руки.
Несколько мгновений он стоял перед своими гостями, а гости стояли перед ним,
не зная, что с собою делать.
- Тема, веди своих гостей в столовую! - выручила мать.
Раскланиваясь перед Аглаидой Васильевной, Рыльский шаркнул, наклонив
голову, и, вежливо еще раз поклонившись, пожал протянутую ему руку. Корнев
слил все в одном поклоне, сжал крепко руку, низко наклонил голову и еще
больше перекосил лицо. Долба размашисто наклонился и после пожатия, поднимая
голову, энергично тряхнул волосами, и они, разлетевшись веером, опять
улеглись на свои места.
- Очень приятно, очень рада, господа, познакомиться, - говорила Аглаида
Васильевна, приветливо и внимательно окидывая взглядом гостей.
Карташев в это время весь превратился в зрение и, по своей
впечатлительности, не замечал, как он и сам кланялся, когда представлялись
его товарищи.
- Ты, чем кланяться, представь-ка лучше сестре, - посоветовал
добродушно Рыльский, смотревший в это время на сестру Карташева в
нерешительном ожидании, когда его представят.
Зинаида Николаевна весело рассмеялась, Рыльский тоже - и все сразу
получило какой-то непринужденный, свободный характер.
Рыльский сел возле Зинаиды Николаевны, смеялся, острил, ему помогал
Семенов. Корнев завел серьезный разговор с Аглаидой Васильевной. Долба
разговаривал с Карташевым, Вервицкий и Берендя молча слушали.
Зинаида Николаевна, уже семнадцатилетняя барышня, в последнем классе
гимназии, ожидавшая гостей брата с некоторым пренебрежением, раскраснелась,
разговорилась, и мать с удовольствием подметила в своей дочери способность и
занимать гостей, и уметь нравиться без всяких шокирующих манер. Все в ней
было просто до скромности, но как-то естественно изящно: поворот головы,
смущенье, манера опускать глаза - все удовлетворяло требовательную Аглаиду
Васильевну. Зато Тема оставлял желать многого: он конфузился, разбрасывался,
не зная, что делать с своими руками, и невыносимо горбился.
Корнев еще хуже горбился. Зато Рыльский держал себя безукоризненно. Его
поклоны и манеры обворожили всех. Долба производил какое-то болезненное
впечатление желанием чем-нибудь, как-нибудь выдвинуться. У Семенова была
видна домашняя дрессировка. Вервицкий и Берендя были для Аглаиды Васильевны
старые знакомые медвежата.
Общество перешло в гостиную. Аглаида Васильевна, пропустив всех,
мысленно определяла место своего сына в обществе его товарищей.
Зинаида Николаевна села за рояль, Семенов принялся открывать свою
скрипку. Рыльский стал возле рояля, Корнев и Долба с кислой физиономией
ходили вдоль окон и посматривали по сторонам. Корнев жалел, что пришел и
теряет вечер в неинтересной для него обстановке.
Аглаида Васильевна ушла и возвратилась, держа за руку Наташу.
Стройная пятнадцатилетняя Наташа, вся разгоревшись, смотрела своими
глубокими большими глазами так, как смотрят в пятнадцать лет на такое
крупное событие, как первое знакомство с таким большим обществом. Она как-то
и доверчиво, и неуверенно, и робко протягивала свою изящную ручку гостям. Ее
густые волосы были заплетены в одну толстую косу сзади.
Появление ее было встречено общим удовольствием: она сразу произвела
впечатление. Корнев впился в нее глазами и энергично принялся за свои ногти.
Лучистые глаза Беренди стали еще лучистее.
Зина мельком окинула сестру, гостей, и удовольствие пробежало по ее
лицу. Ей был приятен и эффектный выход сестры, и, может быть, и то, что
Семенов и Рыльский остались при ней. Это она почувствовала сразу по свойству
женской натуры. Почувствовала это и мать и, оставив дочь возле Корнева,
принялась за Долбу.
Долба горячо и уверенно говорил с ней о притеснениях урядников в
деревне. Аглаида Васильевна никогда не предполагала, чтобы урядники были
таким злом. У нее у самой именье... Он сам откуда? Недалеко от ее имения?
Вот как! Очень приятно. Летом, она надеется...
- Очень приятно, - говорил Долба, смеялся и шаркал ногами.
Только он ведь медведь, простой деревенский медведь, он боится быть
скучным, неинтересным гостем.
Аглаида Васильевна на мгновение опустила глаза, легкая усмешка
пробежала по ее лицу, она посмотрела на сына и заговорила о том, как быстро
идет время и как странно ей видеть таким большим своего сына. Он совсем
почти большой, шутка сказать, через каких-нибудь два года уже в
университете. Долба слушал, смотрел на Аглаиду Васильевну и весело думал:
"Ловкая баба".
Семенов устроился, наладился, вытянул руку, и по зале понеслись твердые
звуки скрипки вперемежку с мягкой мелодичной игрой Зинаиды Николаевны.
- Хорошо Зинаида Николаевна играет, - похвалил Рыльский.
Зинаида Николаевна вспыхнула, а Семенов сосредоточенно кивнул головой,
продолжая выводить ровные твердые звуки.
- А вы играете? - спросил Корнев, заглядывая в глаза Наташи.
- Плохо, - робко, обжигая взглядом, ответила Наташа так, как будто
просила извинения у Корнева. Корнев опять принялся за ногти и чувствовал
себя особенно хорошо.
Вечер прошел незаметно и оживленно. Аглаида Васильевна с большим тактом
сумела позаботиться о том, чтобы никому не было скучно: было и свободно, но
в то же время чувствовалась какая-то незаметная, хотя и приятная рука.
С приездом последнего гостя, Дарсье, сразу очаровавшего всех
непринужденностью своих изящных манер, совершенно неожиданно вечер
закончился танцами: танцевали Дарсье, Рыльский и Семенов. Даже танцевали
мазурку, причем Рыльский прошелся так, что вызвал общий восторг.
Наташа сперва не хотела танцевать.
- Отчего же? - иронически убеждал ее Корнев. - Вам это необходимо...
Вот года через три начнете выезжать, там... ну, как все это водится.
- Я не люблю танцев, - отвечала Наташа, - и никогда выезжать не буду.
- Вот как... отчего ж это?
- Так... не люблю...
Но в конце концов и Наташа пошла танцевать.
Ее тоненькая, стройная фигурка двигалась неуверенно по зале, торопливо
забегая вперед, а Корнев смотрел на нее и сосредоточеннее обыкновенного грыз
свои ногти.
- Н-да... - протянул он рассеянно, когда Наташа опять села возле него.
- Что да? - спросила она.
- Ничего, - нехотя ответил Корнев. Помолчав, он сказал: - Я все вот
хотел понять, в чем тут удовольствие в танцах... Я, собственно, не против
движений еще более диких, но... это удобно на воздухе где-нибудь, летом...
знаете, находит вот этакое настроение шестимесячного теленка... видали,
может, как, поднявши хвост... Кажется, я употребляю выражения, не принятые в
порядочном обществе...
- Что тут непринятого?
- Тем лучше в таком случае... Так вот и я иногда бываю в таком
настроении...
- Бывает, бывает, - вмешался Долба, - и тогда мы его привязываем на
веревку и бьем.
Долба показал, как они бьют, и залился своим мелким смехом. Но,
заметив, что Корневу что-то не понравилось, он смутился и деловым и в то же
время фамильярным голосом спросил:
- Послушай, брат, а не пора ли нам и убираться?
- Рано еще, - вскинула глазами Наташа на Корнева.
- Да что тебе, - ответил Корнев, - сидишь и сиди.
- Ну что ж: кутить так кутить...
Корнев не жалел больше о потерянном вечере.
Уже когда собирались расходиться, Берендя вдруг выразил желание сыграть
на скрипке, и сыграл так, что Корнев шепнул Долбе:
- Ну, если б теперь луна да лето: тут бы все и пропали...
На обратном пути все были под обаянием проведенного вечера.
- Да ведь маменька-то, черт побери, - кричал Долба, - старшая сестра:
глаза-то, глаза. Ах, черт... глаза у них у всех...
- Ах, умная баба, - говорил Корнев. - Ну, баба...
- Да-да... - соглашался Рыльский. - Наш-то род каблучком.
- Та-а-кая тюря!
И Долба, приседая, залился своим мелким смехом. Ему вторил веселый
молодой хохот остальной компании и далеко разносился по сонным улицам
города.
У Карташевых долго еще сидели в этот вечер. В гостиной продолжали
гореть лампы под абажурами, мягко оттеняя обстановку. Зина, Наташа и Тема
сидели, полные ощущения вечера и гостей, которые еще чувствовались в
комнатах.
Зина хвалила Рыльского, его манеру, его находчивость, остроумие; Наташе
нравился Корнев и даже его манера грызть ногти. Теме нравилось все, и он
жадно ловил всякий отзыв о своих товарищах.
- У Дарсье и Рыльского больше других видно влияние порядочной семьи, -
говорила Аглаида Васильевна.
Карташев слушал, и в первый раз с этой стороны освещались пред ним его
товарищи: до сих пор мерило было другое, и между ними всеми всегда
выдвигался и царил Корнев.
- У Семенова натянутость некоторая, - продолжала Аглаида Васильевна.
- Мама, ты заметила, как Семенов ходит? - быстро спросила Наташа, и,
немного расставив руки, вывернув носки внутрь, она пошла, вся поглощенная
старанием добросовестно представить себе в этот момент Семенова.
- А твой Корнев вот так грызет ногти! - И Зина карикатурно сгорбилась в
три погибели, изображая Корнева.
Наташа внимательно, с какой-то тревогой следила за Зиной и вдруг,
весело рассмеявшись, откидывая свою косу, сказала:
- Нет, не похож...
Она решительно остановилась.
- Вот...
Она немного согнулась, уставила глаза в одну точку и раздумчиво
поднесла свой маленький ноготок к губам: Корнев, как живой, появился между
разговаривавшими.
Зина вскрикнула: "Ах! как похож!" Наташа весело рассмеялась и сразу
сбросила с себя маску.
- Надо, Тема, стараться держать себя лучше, - сказала Аглаида
Васильевна, - ты страшно горбишься... Мог бы быть эффектнее всех своих
товарищей.
- Ведь Тема, если б хорошо держался, был бы очень представительный... -
подтвердила Зина. - Что ж, правду сказать, он очень красив: глаза, нос,
волосы...
Тема конфузливо горбился, слушал с удовольствием и в то же время
неприятно морщился.
- Ну, что ты, Тема, точно маленький, право... - заметила Зина. - Но все
это у тебя, как начнешь горбиться, точно пропадает куда-то... Глаза делаются
просительными, точно вот-вот копеечку попросишь...
Зина рассмеялась. Тема встал и заходил по комнате. Он мельком взглянул
на себя в зеркало, отвернулся, пошел в другую сторону, незаметно выпрямился
и, направившись снова к зеркалу, мельком заглянул в него.
- А как ловко танцевать с Рыльским! - воскликнула Зина. - Не чувствуешь
совсем...
- А с Семеновым я все сбивалась, - сказала Наташа.
- Семенову непременно надо от двери начинать. Он ничего себе танцует...
с ним удобно... только ему надо начать... Дарсье отлично танцует.
- У тебя очень милая манера, - бросила мать Зине.
- Наташа тоже хорошо танцует, - похвалила Зина, - только немножко
забегает...
- Я совсем не умею, - ответила Наташа, покраснев.
- Нет, ты очень мило, только торопиться не надо... Ты как-то всегда
прежде кавалера начинаешь... Вот, Тема, не хотел учиться танцевать, -
закончила Зина, обращаясь к брату, - а теперь бы тоже танцевал, как
Рыльский.
- А ты бы мог хорошо танцевать, - сказала Аглаида Васильевна.
У Темы в воображении представился он сам, танцующий, как Рыльский: он
даже почувствовал его pince-nez на своем носу, оправился и усмехнулся.
- Вот ты в эту минуту на Рыльского был похож, - вскрикнула Зина и
предложила: - Давай, Тема, я тебя сейчас выучу польку. Мама, играй.
И неожиданно, под музыку Аглаиды Васильевны, началась дрессировка
молодого медвежонка.
- Раз, два, три, раз, два, три! - отсчитывала Зина, приподняв кончик
платья и проделывая перед Темой па польки.
Тема конфузливо и добросовестно подпрыгивал. Наташа, сидя на диване,
смотрела на брата, и в ее глазах отражались и его конфузливость, и жалость к
нему, и какое-то раздумье, а Зина только изредка улыбалась, решительно
поворачивая брата за плечи, и приговаривала:
- Ну, ты, медвежонок!
- Ой, ой, ой! Четверть первого: спать! спать! - заявила Аглаида
Васильевна, поднявшись со стула, и, осторожно опустив крышку рояля, потушила
свечи.
Жизнь шла своим чередом. Компания ходила в класс, кое-как готовила свои
уроки, собиралась друг у друга и усиленно читала, то вместе, то каждый
порознь.
Карташев не отставал от других. Если для Корнева чтение было врожденною
потребностью в силу желания осмыслить себе окружающую жизнь, то для
Карташева чтение являлось единственным путем выйти из того тяжелого
положения "неуча", в каком он себя чувствовал.
Какой-нибудь Яковлев, первый ученик, ничего тоже не читал, был "неуч",
но Яковлев, во-первых, обладал способностью скрывать свое невежество, а
во-вторых, его пассивная натура и не толкала его никуда. Он стоял у того
окошечка, которое прорубали ему другие, и никуда его больше и не тянуло.
Страстная натура Карташева, напротив, толкала его так, что нередко действия
его получали совершенно непроизвольный характер. С такой натурой, с
потребностью действовать, создавать или разрушать - плохо живется
полуобразованным людям: demi-instruit - double sot*, - говорят французы, и
Карташев достаточно получил ударов на свою долю от корневской компании, чтоб
не стремиться страстно, в свою очередь, выйти из потемок, окружавших его.
Конечно, и читая, по множеству вопросов он был еще, может быть, в большем
тумане, чем раньше, но он уже знал, что он в тумане, знал путь, как
выбираться ему понемногу из этого тумана. Кое-что уж было и освещено. Он с
удовольствием жал руку простого человека, и сознание равенства не гнело его,
как когда-то, а доставляло наслаждение и гордость. Он не хотел носить больше
цветных галстуков, брать с туалета матери одеколон, чтоб надушиться, мечтать
о лакированных ботинках. Ему даже доставляло теперь особенное удовольствие -
неряшество в костюме. Он с восторгом прислушивался, когда Корнев, считая его
своим уже, дружески хлопал по плечу и говорил за него на упрек его матери:
______________
* Полуобразованный - вдвойне дурак (франц.).
Куда нам с суконным рылом!
Карташев в эту минуту был бы очень рад иметь самое настоящее суконное
рыло, чтоб только не походить на какого-нибудь франтоватого Неручева, их
соседа по имению.
Компания после описанного вечера, как ни весело провела время, избегала
под разными предлогами собираться в доме Аглаиды Васильевны. Аглаиду
Васильевну это огорчало, огорчало и Карташева, но он шел туда, куда шли все.
- Нет, я не сочувствую вашим вечерам, - говорила Аглаида Васильевна, -
учишься ты плохо, для семьи стал чужим человеком.
- Чем же я чужой? - спрашивал Карташев.
- Всем... Прежде ты был любящим, простым мальчиком, теперь ты чужой...
ищешь недостатки у сестер.
- Где же я их ищу?
- Ты нападаешь на сестер, смеешься над их радостями.
- Я вовсе не смеюсь, но если Зина видит свою радость в каком-нибудь
платье, то мне, конечно, смешно.
- А в чем же ей видеть радость? Она учит уроки, идет первой и полное
право имеет радоваться новому платью.
Карташев слушал, и в душе ему было жаль Зины. В самом деле: пусть
радуется своему платью, если оно радует ее. Но за платьем шло что-нибудь
другое, за этим опять свое, и вся сеть условных приличий снова охватывала и
оплетала Карташева до тех пор, пока он не восставал.
- У тебя все принято, не принято, - горячо говорил он сестре, - точно
мир от этого развалится, а все это ерунда, ерунда, ерунда... яйца выеденного
не стоит. Корнева ни о чем этом не думает, а дай бог, чтоб все такие были.
- О-о-о! Мама! Что он говорит?! - всплескивала руками Зина.
- Чем же Корнева так хороша? - спрашивала Аглаида Васильевна. - Учится
хорошо?
- Что ж учится? Я и не знаю, как она учится.
- Да плохо учится, - с сердцем пояснила Зина.
- Тем лучше, - пренебрежительно пожимал плечами Карташев.
- Где же предел этого лучше? - спрашивала Аглаида Васильевна, - быть за
неспособность выгнанной из гимназии?
- Это крайность: надо учиться середка наполовинку.
- Значит, твоя Корнева середка наполовинке, - вставляла Зина, - ни рыба
ни мясо, ни теплое ни холодное - фи, гадость!
- Да это никакого отношения не имеет ни к холодному, ни к теплому.
- Очень много имеет, мой милый, - говорила Аглаида Васильевна. - Я себе
представляю такую картину: учитель вызывает "Корнева!" Корнева выходит.
"Отвечайте!" - "Я не знаю урока". Корнева идет на место. Лицо у нее при этом
сияет. Во всяком случае, вероятно, довольное, пошлое. Нет достоинства!
Аглаида Васильевна говорит выразительно, и Карташеву неприятно и
тяжело: мать сумела в его глазах унизить Корневу.
- Она много читает? - продолжает мать.
- Ничего она не читает.
- И не читает даже...
Аглаида Васильевна вздохнула.
- По-моему, - грустно говорит она, - твоя Корнева пустенькая девчонка,
к которой только потому нельзя относиться строго, что некому указать ей на
ее пустоту.
Карташев понимает, на что намекает мать, и скрепя сердце принимает
вызов:
- У нее мать есть.
- Перестань, Тема, говорить глупости, - авторитетно останавливает мать.
- Ее мать такая же неграмотная, как наша Таня. Я сегодня тебе одену Таню, и
она будет такая же, как и мать Корнева. Она, может быть, очень хорошая
женщина, но и эта самая Таня при всех своих достоинствах все-таки имеет
недостатки своей среды, и влияние ее на свою дочь не может быть бесследным.
Надо уметь различать порядочную, воспитанную семью от другой. Не для того
дается образование, чтоб в конце концов смешать в кашу все то, что в тебя
вложено поколениями.
- Какими поколениями? Все от Адама.
- Нет, ты умышленно сам себя обманываешь; твои понятия о чести тоньше,
чем у Еремея. Для него не доступно, то что понятно тебе.
- Потому что я образованнее.
- Потому что ты воспитаннее... Образование одно, а воспитание другое.
Пока Карташев задумывался перед этими новыми барьерами, Аглаида
Васильевна продолжала:
- Тема, ты на скользком пути, и если твои мозги сами не будут работать,
то никто тебе не поможет. Можно выйти пустоцветом, можно дать людям обильную
жатву... Только ты сам и можешь помочь себе, и тебе больше, чем кому-нибудь,
грех: у тебя семья такая, какой другой ты не найдешь. Если в ней ты не
почерпнешь сил для разумной жизни, то нигде и никто их не даст тебе.
- Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.
- Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья - это те камни, из
которых сложен этот зал.
Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся
путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет
своей дорогой.
Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается
компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его
рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания
жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером
собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна
скрепя сердце отпускала сына.
Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.
- Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, - сказал он матери с силой
и выразительностью, - а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь
негодяем: я разобью свою жизнь...
- Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.
Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:
- Мама, я иду к Корневу.
И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала
головой.
IV
ГИМНАЗИЯ
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были
тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого
интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба
шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в
своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же
бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не
дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть
больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический
масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям
гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство
гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие - уважения,
третьи - ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме
пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме
механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли
"амфибиями". Добрая амфибия - надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия
- учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных
языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные.
Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их
фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с
горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали,
хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей.
Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его
резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в
младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий
Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и
учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших
классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у
старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему
презрительно "виноват" или подарить его соответственным взглядом. А когда он
пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным
вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на
него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев,
раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
- Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока
высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.
Насытившийся единицами и двойками учитель только водил своими
опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в
учительскую.
Нельзя сказать, чтоб это был злой человек, но вниманием его
пользовались исключительно оторопелые, и по мере того как эти жертвы под его
опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те,
в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки.
Хлопов и между учителями не пользовался симпатией, и кто из учеников
заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко
Карташев понимает, на что намекает мать, а скрепя сердце принимает вызов:
У нее мать есть.
Перестань, Тёма, говорить глупости, - авторитетно останавливает мать. - Ее мать такая же неграмотная, как наша Таня. Я сегодня тебе одену Таню, и она будет такая же, как и мать Корнева. Она, может быть, очень хорошая женщина, но и эта самая Таня при всех своих достоинствах все-таки имеет недостатки своей среды, и влияние ее на свою дочь не может быть бесследным. Надо уметь различать порядочную, воспитанную семью от другой. Не для того дается образование, чтоб в конце концов смешать в кашу все то, что в тебя вложено поколениями.
Какими поколениями? Все от Адама.
Нет, ты умышленно сам себя обманываешь; твои понятия о чести тоньше, чем у Еремея. Для него не доступно то, что понятно тебе.
Потому что я образованнее.
Потому что ты воспитаннее… Образование одно, а воспитание другое.
Пока Карташев задумывался перед этими новыми барьерами, Аглаида Васильевна продолжала:
Тёма, ты на скользком пути, и если твои мозги сами не будут работать, то никто тебе не поможет. Можно выйти пустоцветом, можно дать людям обильную жатву… Только ты сам и можешь помочь себе, и тебе больше, чем кому-нибудь, грех: у тебя семья такая, какой другой ты не найдешь. Если в ней ты не почерпнешь сил для разумной жизни, то нигде и никто их не даст тебе.
Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.
Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья - это те камни, из которых сложен этот зал.
Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет своей дорогой.
Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна скрепя сердце отпускала сына.
Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.
Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, - сказал он матери с силой и выразительностью, - а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь негодяем: я разобью свою жизнь…
Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.
Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:
Мама, я иду к Корневу.
И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала головой.
IV
Гимназия
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие - уважения, третьи - ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Добрая амфибия - надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия - учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.
Насытившийся единицами и двойками учитель только водил своими опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в учительскую.
Нельзя сказать, чтоб это был злой человек, но вниманием его пользовались исключительно оторопелые, и по мере того как эти жертвы под его опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те, в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки. Хлопов и между учителями не пользовался симпатией, и кто из учеников заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко бегающим из угла в угол, с красным возбужденным лицом, с видом обиженного человека.
– Лидия Васильевна, вы, наверное, знаете о том, что происходит в современной школе, какие проходят реформы, что меняется. Каково ваше мнение об этом?
– Все очень плохо. Я отнюдь не говорю: «ах, как раньше было прелестно», нет. Были очень строгие границы. Например, ты должен был «проходить» какого-то писателя, скажем, восемь часов, и все тут. Я получила несколько выговоров за то, что на кого-то выделила больше времени, на кого-то меньше, но потом я научилась выкручиваться.
Так же как, например, я поняла, что по литературе не буду вызывать к доске и ставить за это отметку, потому что это не нужно. Я завела тетрадь, и за каждый урок я ставила порядка пятнадцати оценок – иногда за два слова, потому что они были очень интересными и раскрывали суть вопроса, иногда – за какой-то развернутый ответ, иногда – за удачно подобранный текст, еще что-то, и к концу темы у меня накапливались оценки на каждого ученика.
Закончили мы, скажем, Пушкина, и я выставляю из всех заработанных среднюю оценку. Иногда ее удавалось исправить, иногда нет. Но выставлять одну оценку за месяц нельзя было ни в коем случае, я должна была выставлять оценки в журнал каждый день!
Мне повезло с директорами. Не сразу, но постепенно я получала кое-какую свободу, и директор пошла мне навстречу: «Ладно, только ты не ставь оценки в журнале в один столбец, а раскидай так, будто они тебе отвечали, на разные уроки». Но дети знали, я им говорила: вот от этого числа до этого – за такую-то тему. И проверяющие были довольны: все в порядке.
– Что еще было плохого, раздражающего в советской школьной системе?
– Таких вещей было очень много, например, бесконечные дурацкие проверяющие. Ко мне ходила какая-то дама из райкома, писала какие-то отчеты… Конечно, это страшно мешало, раздражало. Еще раздражали всякие совещания, партсобрания. С одной стороны, я была не обязана их посещать, так как была беспартийная, а с другой – обязана, потому что там обсуждались вопросы, которые больше нигде не обсуждались. Это была ужасная трата времени.
Раздражала политинформация, обязательное выписывание «Правды». У меня муж выписывал – он был обязан, но нет – я должна была тоже. То есть нам надо было выписывать две «Правды» на семью. Просила: дайте мне «Комсомольскую правду», может, там хоть что-то другое… Нет. С большим трудом тогда отбилась.
Очень тяжело доставались книги, журналы – тогда же было много литературных журналов, но выписать их было невозможно. Но мне везло с руководством. Когда я пришла после первого года в новую школу, у нас директором была важная партийная дама. Но ей понравилось что-то во мне как в классном руководителе – у меня дети вели собрания, мы с ними всегда много ездили на экскурсии, я устраивала литературные вечера… И она на многое закрывала глаза.
– На что, например?
– На то, что полагалось иметь оформленный определенным образом конспект каждого урока, где все детально расписано; а у меня всегда были конспекты, но я их писала так, как надо было мне, а не проверяющим, другой человек вообще бы не понял, что я там накалякала: полфразы, полслова, еще что-нибудь. И директор меня прикрывала.
Когда проверяющие требовали конспект уроков, она мне говорила: «Напиши, пожалуйста, отдельный конспект на листочке, я скажу, что тетрадь у меня». Так что я при ней хорошо жила. Когда я начала потом работать в Черемушках, там было хуже, меня особо не прикрывали. Хотя там была хорошая атмосфера, коллектив, сильные словесники, но очень утомляли все эти бесконечные комиссии, проверки…
Но тогда я уже научилась представлять комиссии то, что им надо. А потом я ушла в английскую школу на Ленинском. Там директором была тоже очень властная женщина, но у нее было так: если ты работаешь хорошо, то тебе многое позволено, если плохо, то она будет к тебе придираться.
Школа должна поставить письменную речь
– Чем определялось качество работы учителя?
– Результатами экзаменов, поступлением, тем, как пишут сочинения. Сочинения – это очень важная вещь. Сейчас их было совсем выкинули, а теперь новый министр хочет ввести их обратно. Это необходимо, потому что человек, кем бы он ни был, должен уметь связно излагать свои мысли.
– Для меня это спорный момент, потому что я еще успела попроверять вступительные сочинения в университете, и мне было откровенно жалко абитуриентов на каком-нибудь факультете почвоведения, которых мы «рубили» на сочинениях. Я знаю грустную историю блестящего математика, не поступившего на мехмат из-за ошибок в диктанте. Это тоже не очень правильно?
– Нет, я даже не про вступительные сочинения – естественно, они должны быть совершенно разные на почвоведении и на филфаке. Но я говорю о том, что школа должна «поставить» письменную речь.
Я всегда пыталась объяснить детям, что сочинение не должно быть таким эмоциональным «ахом» – это, скорее, научный труд: ты должен что-то доказать в соответствии с определенной структурой: сначала вступление, потом доказательства, потом вывод. Это, по-моему, совершенно необходимо, но именно на это у словесника никогда не было часов. А теперь сочинений вообще почти нет.
– Что еще хорошего было в советской системе школьного образования?
– Во-первых, то, что тогда была история русской литературы, знание которой, я считаю, необходимо для всякого человека. Русская литература – это такое богатство! Сейчас рассуждают о патриотизме, о том, как его воспитывать. Наша литература, наша история – вот то, что надо знать, прочувствовать еще в детстве, отрочестве – и тогда не надо будет вести никаких пустых разговоров о патриотизме.
С того момента, как начали вводиться тесты, никакой истории литературы не осталось – остались какие-то отдельные произведения. Тесты – это вообще ужасно. Еще мой сын, когда учился в Бауманском, рассказывал алгоритм их решения: даются четыре варианта ответа: один – явная дурь, ты его сразу зачеркиваешь; другой, если подумать, тоже глупый; остаются два: закроешь глаза, ткнешь пальцем – в большинстве случаев попадешь, иногда промажешь, но поскольку вопросов много, то, в общем, попадаешь.
К тому же на этих тестах какие-то дикие вопросы – я не говорю о тех, где спрашивают, какого цвета было платье у Наташи Ростовой, но есть вопросы, правильные ответы на которые засчитываются как неправильные. И их масса.
Мы потеряли систему
– Что еще в школе изменилось к худшему с советских времен?
– Я считаю, что бесконечные слияния – это безобразие. Преобразование школ – это не такой процесс, где можно сегодня делать так, завтра сяк, а послезавтра наперекосяк.
Представьте, что будет, если в семье сегодня идет устоявшаяся жизнь, а завтра мы вдруг решим все переменить, а послезавтра сделать еще по-другому. И что получится? Никакой семьи просто не будет, она распадется, исчезнет. Почему, соединив плохую школу с хорошей, вы получите хорошую? Откуда вы это взяли?
Моя знакомая закончила МАИ, пошла в школу, преподавала информатику, стала завучем, постепенно получила педагогическое образование, и все было хорошо. Потом их объединили с другими школами, и ее сделали завучем младших классов, о которых она не имеет никакого понятия…
Кроме того, в классе как было 30 детей, так и осталось, но теперь часть из них сильные, часть средние, часть вообще не знает русского языка, часть – те, кто раньше попадал в систему корректирующего образования. И учитель должен работать со всеми, и к каждому у него должен быть индивидуальный подход.
– Но к вам в школу наверняка приходили разные дети.
– Правильно. Но у меня никогда не было ни не знающих русский язык, ни умственно отсталых. Я в свое время давала частные уроки детям с дефектами развития. Я училась с ними работать, писала какие-то бесконечные отчеты, занималась – но, конечно, индивидуально. Дети – жестокие создания. Когда в классе есть просто чудак, учителю стоит колоссальных усилий заставить других его не воспринимать как изгоя, которому можно дать тумак.
Поэтому когда я прочитала о новом подходе к обучению детей в школе, удивилась и расстроилась. Конечно, дети с какими-то физическими недостатками могут и должны учиться вместе со здоровыми детьми, это правильно, но это ляжет дополнительной (и не всегда реально выполнимой) нагрузкой на педагогов. А детей из коррекционных школ нельзя взять и посадить в обычный класс. Нельзя закрывать эти школы.
А дети, не знающие язык? Я какое-то время работала в Тимирязевской академии с иностранцами, так это совершенно другая вещь – преподавание русского языка как иностранного. Мои друзья, окончившие филфак МГУ, потом шли учиться специально для того, чтобы преподавать в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
– У меня такое чувство, что нынешние дети очень перегружены. В советской школе была более сбалансированная программа? Или, может, детей не отдавали на десять кружков одновременно, не нанимали репетиторов по всем школьным предметам?
– Программа была перегружена – во всяком случае, об этом все время говорили, переживали, что дети очень долго занимаются, и в старших классах они действительно много занимались. И репетиторы всегда были. Но тогда репетиторы учили, а вот когда ввели ЕГЭ, появились другие репетиторы, которые учат, где поставить галочку в ответах, какие будут вопросы, что надо знать, а на что вообще наплевать, и не дают систематических знаний.
Раньше были факультативы, были бесплатные кружки, сейчас же большая часть стала платной. Для меня это как-то дико. А потом, меня еще удивляет, что какие-то прежде программные вещи даются в виде дополнительных занятий.
«Учение с увлечением» не дало результата
– Что еще хорошее мы потеряли?
– Мы потеряли систему.
Пусть не совсем удачную, пусть в ней было много недостатков – тогда, кстати, боролись с этими недостатками, придумывали что-то новое. Но если у вас из окна дует, вы же не будете сносить дом, правда? – вы будете менять окно. А тут решили снести дом, и на его месте получился полный кавардак.
– У меня еще возникает вопрос, когда я смотрю, как в первых классах разных школ непрерывно вводят новые программы изучения русского языка: старая система, по которой учили в советской школе, была чем-то плоха, дети выходили из школы неграмотными?
– Нет, конечно. Когда я училась в школе, у нас был учитель, который объяснял правило, давал ежедневно диктант и добросовестно его проверял. Все. И у него вырастали грамотные ученики. Но если вы будете вместо этого приплясывать и пританцовывать, как часто делают молодые учителя, – ничего не останется.
– У нас было , из которого следовало, что одна из ее основных задач на уроках – увлечь детей, чтобы они сидели и спорили о чем-то. Всегда ли этот увлеченный спор результативен с точки зрения учебного процесса?
– Я еще работала, когда началось это движение, оно называлось «учение с увлечением». Я вовсе не считаю, что нужно преподавать так, чтобы на твоих уроках дохли мухи, – никто ничего не усвоит, дети будут зевать, и все.
Так что спор – это хорошо. Но я уверена, что школа должна вырабатывать у детей привычку к труду. А труд – это не всегда восторг и вдохновение, в нем много утомительной, каждодневной, но необходимой работы.
«Учение с увлечением» же вылилось в то, что на уроке пели, плясали, давали какие-то драматические отрывки из произведений, а результат был никакой. Дети смотрят, им даже интересно, но что они после этого знают?
Однажды я была на открытом уроке одного учителя, уже очень немолодого. Замечательный и обыкновенный урок: он просто разговаривал с детьми, спрашивал их, и они ему отвечали. И наш методист сказала: «Конечно, это все прекрасно, но у вас нет никакого наглядного материала, стендов нет» – а к тому времени стенды были обязательны. Он усмехнулся и сказал: «Вот у меня шкаф с книжками. Это книги моих учеников, чем я и горжусь».

Те же дети
– Как вам кажется, дети, которых вы учили с 54-го по 89-й год, отличались чем-то от своих нынешних ровесников?
– Я сейчас не преподаю, но по тому, что я вижу, мне кажется, не так уж они и отличаются. Конечно, появились новые замечательные словечки, от которых меня передергивает, но я понимаю, что когда в моей молодости моя мама слышала «железно», она тоже вся перекашивалась, потому что ей казалось, что это что-то совершенно неприличное.
– Современные учителя иногда стараются говорить на одном языке с детьми, в частности, используют сленг. А вы бы могли сказать на уроке «железно»?
– Нет, конечно. Мне кажется неправильным, когда учитель так говорит на уроке и считает, что это его связывает с детьми. Надо в детях этот язык тихо изводить. Моя Варя все время говорила «тусить». Я понимаю слово «тусоваться», и оно мне не режет ухо, а «тусить» меня страшно раздражало.
И мы с ней стали разбирать, откуда оно пошло, какие есть синонимы. Мы нашли даже какое-то смешное и глупое слово, которым его можно было заменить, и Варя после этого перестала говорить «тусить», хотя я ее никак не принуждала.
– Но, с другой стороны, чтобы она в каком-то круге ровесников была принята за свою, ей нужно так говорить.
– Конечно, никто против этого и не возражает.
«Вы хотите научить, а они сидят и хихикают вам в глаза»
– Изменилось ли сегодня отношение к учителю? Когда я поступала в университет, многие шли в пединституты, если не поступили в «нормальный» вуз. А как было в ваше время?
– Было то же самое. Поэтому когда я шла на один год работать в школу, я туда шла с ощущением, что я там не останусь. Это было не то, о чем я мечтала. Но когда я встретилась в школе с этими людьми, то среди них оказалось очень много вполне достойных и умных. Это профессия, которая очень жестко отсеивает людей, и многие, немного поработав, уходили в теоретики: в гороно, в Министерство просвещения, в методисты.
Почему уходили? Представьте: приходите вы в класс, возможно, вы даже знающий человек, хотите их научить, прямо переполнены этим желанием, сейчас вы расскажете им все, что знаете. А они сидят, хихикают вам в глаза, спрашивают: «А можно, я выйду?» – или еще что-нибудь. Человек теряется, не знает, что делать. Иногда начинает кричать, топать ногами, наказывать. Это бесплодно, это ничего не дает, но он так работает день, два, три, четыре, пять, шесть. Иногда привыкает.
Таких несчастных я видела – они иногда преподают по тридцать лет, и все тридцать лет они существуют в этом ужасе. У нас была такая математичка – ее трубный голос слышался по всему коридору, но что делалось в классе, описать нельзя. И выгнать ее было нельзя.
Ко мне однажды пришел молодой человек, сын успешных актеров. Он сначала окончил техническое учебное заведение, а потом решил, что хочет быть «учителем словесности», как он важно говорил. И мне его дали под опеку. Он много читал, много знал, он был очень милым мальчиком, ничего плохого про него сказать не могу, но как приходишь к нему на урок… Дети молчат, потому что я там сижу, но я вижу, что у кого-то раскрыта книга, у кого-то журнал, им неинтересно.
Почему им неинтересно? Я сама не знаю – он много знает, он может многому научить. Он ходил с ними в походы, ездил на велосипедах, чего только не делал. Потом ушел в спортшколу… Он думал, что там будет лучше. Не вышло. А так мечтал человек…
– Чего ему не хватало?
– Я не знаю. Это творческая профессия. Если вы хотите быть, например, художником, если вам не дан талант, вы не начнете рисовать, и если у вас нет голоса – вы не запоете, хоть умрите, даже если знаете ноты.
– То есть учитель – это профессия, требующая какой-то Божьей искры?
– Да. И при этом, как правило, поначалу мало кто хочет идти работать учителем, а потом втягивается. У меня где-то лежит книжка, изданная в нашем районе, она называется «Учительские династии». Мы туда тоже попали: моя бабушка, моя мама, я и моя дочь.
И я помню, что в нашей семье вся молодежь говорила, что мы никогда не будем преподавать, это такая тоска зеленая. При этом моя племянница, которая волею судеб в 90-е преподавала в школе, сейчас вспоминает об этом с удовольствием. Моя мама, по профессии – агрохимик, всю жизнь работала в научно-исследовательских институтах, во время войны преподавала, и потом вспоминала это как лучший год своей жизни.
Моя внучка, по профессии дизайнер, преподавала в филиале Британской академии художеств в Москве, говорила, что ей очень интересно, ее ученики получали международные премии. Внук сестры окончил физтех и пошел преподавать в школе при Курчатовском институте, в этом году ему пришлось уйти – уехал на полгода в Америку, и он очень скучает по школе. Моя другая внучка тоже сейчас преподает, ей очень нравится. Моя дочь преподает в МГИМО. Почему так? Я не знаю. Наверное, надо иметь какой-то особый талант.
Учитель учит и мучит
– Каким был ваш первый год в школе в качестве учителя?
– Я очень мучилась. В моей молодости был анекдот: учитель пять лет мучится – пять лет учится, пять лет учит – пять лет мучит… Я пришла в школу в 1954-м, в тот год, когда объединили мужские и женские школы. И в процессе объединения все школы старались хороших детей оставить себе, а в чужие отправить второгодников и тех, кто похуже.
Школа, которую я заканчивала, была, естественно, женской; представляете, кого к нам перевели из мужских школ? Мне дали сначала восьмые классы, и в восьмых у меня сразу все пошло хорошо, но администрация подумала: почему это у молодого преподавателя только восьмые? Дадим ей еще четвертые! И это был кошмар. Я просто не знала, что с ними делать.
Скажем, Иванов сидел на первой парте, я отворачиваюсь к доске, а когда поворачиваюсь обратно, Иванов сидит на последней… Но постепенно и с ними наладилось и стало терпимо. А на следующий год часть нашей школы перевели в новостройку, и я с радостью сказала, что я туда уйду. Не из-за детей, а потому, что у меня было представление ученика о той школе, где я работала – ведь я ее заканчивала, знала этих учителей, – и когда я попала совсем в другое положение, я была потрясена интригами, доносами директору и так далее.
Я была еще слишком наивной, не представляла себе, что можно ходить к кому-то, жаловаться, доносить, хотя не могу сказать, чтобы была идеалистом. Я ушла в новостройку, там в коллективе была в основном молодежь, и в новой школе у меня дела сразу пошли нормально.

– Нет, мне стало интересно. Я видела уже не столько класс, сколько отдельных людей. Я поняла, что главное – это внимание и уважение к каждому, тогда и к тебе отнесутся так же. Не должно быть никакого панибратства, но никогда нельзя никого унижать. И, конечно, надо отлично знать то, что преподаешь, и любить свой предмет.
Язык я тоже, естественно, преподавала, и старалась это делать хорошо, но литература – это мое. У нас в университете был один изумительный преподаватель, у него не было никаких особых степеней, Николай Иванович Белкин. И он с нами занимался разбором произведений и говорил, что не надо читать лекции, а надо просто вникать в текст: вместе с учениками говорить, спорить, думать. Я на этом пути перенесла много трудностей, но потом это стало интересно и мне, и им.
– Для меня главная загадка в профессии учителя – то, что человек из года в год повторяет, по сути, одно и то же…
– Нет, это неправда, даже если у вас два класса в одной и той же параллели. Некоторые выучивают лекцию и потом ее зачитывают – тогда, конечно, получается одно и то же, и для всех это тоска зеленая. А если вы с детьми говорите, одного и того же никогда не получится, потому что люди разные, выводы разные и я разная.
И я, несмотря на то, что знаю почти наизусть романы, которые сто раз проходила с учениками, все равно каждый раз их проглядываю, просматриваю, прочитываю, и всегда нахожу что-то новое, поэтому каждый раз говорю что-то другое. По разным семейным обстоятельствам я несколько раз занималась другой работой: преподавала русский язык иностранцам, работала в журнале «Крестьянка». Вот это было скучновато.
«Быстро поняла, что кричать не могу»
– Как вы добивались того, чтобы дети на уроке все вели себя подобающим образом?
– Я очень быстро поняла, что кричать не могу, хотя голос у меня достаточно сильный, но мне это не нравилось. И я поняла, что надо воздействовать какими-то другими способами. Я пытаюсь понять, что, собственно, я делала, какой у меня был способ, и затрудняюсь ответить. Знаю только, что между учеником и учителем обязательно должна быть дистанция, панибратство не проходит, оно рано или поздно непременно проваливается, я такое видела.
Я сама была достаточно молода, когда пришла в школу, мне было 23, а ученики у меня были второгодники по 18 лет, но мне удалось как-то себя поставить, обозначить дистанцию. В последние годы у меня единственным средством дисциплинарного воздействия было… обручальное кольцо. Например, я рассказываю что-то на уроке литературы, я же не могу одновременно рассказывать о Достоевском и делать замечания, поэтому я стучала кольцом по столу, если что. Но такое приходит постепенно, конечно, это не сразу дается.
– За что вы строже всего наказывали и как учитель, и как классный руководитель?
– Наверное, за жестокость. За некрасивое вранье. Все привирают, это ладно, но если это во вред кому-то…
– А в плане отношения к предмету?
– Я не считала, что все обязательно должны безумно любить литературу. Он математику любит – ну и что с ним сделаешь? Но какой-то минимум он должен усвоить, я обязана его чему-то научить, ведь ему куда-то поступать, ведь он должен грамотно писать. Если ты берешь свои высоты в другом месте – пожалуйста. Чтобы все сидели, вытаращив глаза, и восхищались, тоже невозможно.
Как мне кажется, главное в преподавании литературы и истории в школе в том, что это тот материал, который действительно формирует взгляды на жизнь, на свою страну, на свое место в обществе, причем не в приказном порядке, а естественно.
– Были ли среди ваших учеников такие, которым вообще ничего не было интересно – ни математика, ни литература, ни география?
– Был такой мальчик Петя, кругленький, толстенький, глаз у него был мутный, и все уроки он сидел, сложив ручки. Он был нормальный ученик, не умственно отсталый, просто ему ничего не было интересно. «Петя, пиши». – «Пишу». – «Петь, не мечтай, пиши». – «Пишу», – вот и все, что я от него слышала. Прошло два года. Я уже там не работала. Встречаю как-то Петю, и он мне радостно сообщает: «Вы знаете, я «Войну и мир» читал. Про войну, а остальное скучно. И четверку мне поставили!» – «За что, Петя?» – «Стенд сделал, с картинками!»
– А сейчас бывшие ученики вас навещают?
– У меня есть свой жизненный принцип (как говорят многие, глупый): я не люблю что-то продлевать в жизни. Кончился какой-то отрезок в жизни – и все, точка. Поэтому когда десять лет назад я уехала со старой квартиры, я никому не оставила никаких телефонов. А до того момента – да, звонили, заходили. На встречи с выпускниками я не хожу – по той же причине, да и мне это тяжело. «По несчастью или счастью, истина проста: никогда не возвращайтесь в прежние места». Вот я и не возвращаюсь.
Ксения Кнорре Дмитриева
Ну, вот глупости, ты можешь рисовать всякий, какой захочешь... Лишь бы был нос. Ну, скажешь, что у дяди твоего такой нос... вот и все. Это все глупости, а вот хочешь, я покажу тебе фокус, только крепко держи.
Вахнов сунул в руку Тёмы какой-то продолговатый предмет.
- Крепко держи!
- Ты что-нибудь сделаешь?
- Ну вот... только держи... крепче! - И Вахнов с силой дернул шнурок.
В то же мгновение Тёма с пронзительным криком, уколотый двумя высунувшимися иголками, хватил со всего размаха Вахнова по лицу.
Учитель встал со своего места и пошел к Тёме.
- Только выдай, сегодня же отделаем под шинелями, - прошептал Вахнов.
Учитель, с каким-то болезненным, прозрачным лицом, с длинными бакенбардами, с стеклянными глазами, подошел и уставился на Тёму.
- Как фамилия?
- Карташев.
- Встаньте!
Тёма встал.
- Вы что ж, в кабак сюда пришли?
Тёма молчал.
- Ваше рисование?
Тёма протянул свой нос.
- Это что ж такое?
- Это моего дяди нос, - отвечал Тёма.
- Вашего дяди? - загадочно переспросил учитель. - Хорошо-с, ступайте из класса!
- Я больше не буду, - прошептал Тёма.
- Хорошо-с, ступайте из класса. - И учитель ушел на свое место.
- Иди, это ничего, - прошептал Вахнов. - Постоишь до конца урока и придешь назад. Молодец! Первым товарищем будешь!
Тёма вышел из класса и стал в темном коридоре у самых дверей. Немного погодя в конце коридора показалась фигура в форменном фраке. Фигура быстро подвигалась к Тёме.
- Вы зачем здесь? - наклонясь к Тёме, спросил как-то неопределенно мягко господин.
Тёма увидел перед собой черное, с козлиной бородой лицо, большие черные глаза с массой тонких синих жилок вокруг них.
- Я... Учитель сказал мне постоять здесь.
- Вы шалили?
- Н... нет.
- Ваша фамилия?
- Карташев.
- Вы маленький негодяй, однако! - проговорил господин, совсем близко приближая свое лицо, таким голосом, что Тёме показалось, будто господин этот оскалил зубы. Тёма задрожал от страха. Его охватило такое же чувство ужаса, как в сарае, когда он остался с глазу на глаз с Абрумкой.
- За что Карташев выслан из класса? - спросил он, распахнув дверь.
При появлении господина весь класс шумно встал и вытянулся в струнку.
- Дерется, - проговорил учитель. - Я дал ему модель носа, а он вот что нарисовал и говорит, что это нос его дяди.
Светлый класс, масса народа успокоили Тёму. Он понял, что сделался жертвой Вахнова, понял, что необходимо объясниться, но, на свое несчастье, он вспомнил и наставление отца о товариществе. Ему показалось особенно удобным именно теперь, пред всем классом, заявить, так сказать, себя сразу, и он заговорил взволнованным, но уверенным и убежденным голосом:
- Я, конечно, никогда не выдам товарищей, но я все-таки могу сказать, что я ни в чем не виноват, потому что меня очень нехорошо обманули и ска...
- Молчать!! - заревел благим матом господин в форменном фраке. Негодный мальчишка!
Тёме, не привыкшему к гимназической дисциплине, пришла другая несчастная мысль в голову.
- Позвольте... - заговорил он дрожащим, растерянным голосом, - вы разве смеете на меня так кричать и ругать меня?
- Вон!! - заревел господин во фраке и, схватив за руку Тёму, потащил за собой по коридору.
- Постойте... - упирался сбившийся окончательно с толку Тёма. - Я не хочу с вами идти... Постойте...
Но господин продолжал волочить Тёму. Дотащив его до дежурной, господин обратился к выскочившему надзирателю и проговорил, задыхаясь от бешенства:
- Везите этого дерзкого сорванца домой и скажите, что он исключен из гимназии.
Отец, успевший только что возвратиться из города, передавал жене гимназические впечатления.
Мать сидела в столовой и занималась с Зиной и Наташей. Из отворенных дверей детской доносилась возня Сережика с Аней.
- Так все-таки испугался?
- Струсил, - усмехнулся отец. - Глазенки забегали. Привыкнет.
- Бедный мальчик, - трудно ему будет! - вздохнула мать и, посмотрев на часы, проговорила: - Второй урок кончается. Сегодня надо будет ему торжественную встречу сделать. Надо заказать к обеду все любимые его блюда.
- Мама, - вмешалась Зина, - он любит больше всего компот.
- Я подарю ему свою записную книжечку.
- Какую, мама, - из слоновой кости? - спросила Зина.
- Да.
- Мама, а я подарю ему свою коробочку. Знаешь? Голубенькую.
- А я, мама, что подарю? - спросила Наташа. - Он шоколад любит... я подарю ему шоколаду.
- Хорошо, милая девочка. Всё положим на серебряный поднос и, когда он войдет в гостиную, торжественно поднесем ему.
- Ну, и я ему тоже подарю: кинжал в бархатной оправе, - проговорил отец.
- Ну, уж это будет полный праздник ему...
Звонок прервал дальнейшие разговоры.
- Кто б это мог быть? - спросила мать и, войдя в спальню, заглянула на улицу.
У калитки стоял Тёма с каким-то незнакомым господином в помятой шляпе. Сердце матери тоскливо ёкнуло.
- Что с тобой?! - окликнула она Тёму, входившего с каким-то взбудораженным, перевернутым лицом.
На этом лице было в это мгновение всё: стыд, растерянность, какая-то тупая напряженность, раздражение, оскорбленное чувство, - одним словом, такого лица мать не только никогда не видела у своего сына, но даже и представить себе не могла, чтобы оно могло быть таким. Своим материнским сердцем она сейчас же поняла, что с Тёмой случилось какое-то большое горе.
- Что с тобой, мой мальчик?
Этот мягкий, нежный вопрос, обдав Тёму привычным теплом и лаской семьи, после всех этих холодных, безучастных лиц гимназии потряс его до самых тончайших фибр его существования.
- Мама! - мог только закричать он и бросился, судорожно, безумно рыдая, к матери...
После обеда Карташевы, муж и жена, поехали объясняться к директору.
Господин во фраке, оказавшийся самим директором, принял их в своей гостиной сухо и сдержанно, но вежливо, с порядочностью воспитанного человека.
Горячий пыл матери разбился о нервный, но сдержанный и сухой тон директора. Он деликатно, терпеливо слушал ее взгляды на воспитание, какие именно цели она преследовала, слушал, скрывая ощущение какого-то невольного пренебрежения к словам матери, и, когда она кончила, как-то нехотя начал:
- В моем распоряжении с лишком четыреста детей. Каждая мать, конечно, воспитывает своих детей, как ей кажется лучше, считает, конечно, свою систему идеальной и решительно забывает только об одном: о дальнейшем, общественном уже воспитании своего ребенка, совершенно забывает о том руководителе, на обязанности которого лежит сплотить всю эту разрозненную массу в нечто такое, с чем, говоря о практической стороне дела, можно было бы совладать. Если каждый ребенок начнет рассуждать с своей точки зрения о правах своего начальника, забьет себе в свою легкомысленную, взбалмошную голову правила какого-то товарищества, цель которого прежде всего скрывать шалости, - следовательно, в основе его - уже стремление высвободиться от влияния руководителя, - зачем же тогда эти руководители? Будем последовательны - зачем же вы тогда? Мне кажется: раз вы почему-либо признаете необходимостью для вашего сына общественное воспитание, раз вы почему-либо отказываетесь от его дальнейшего обучения и передаете его нам, вы тем самым обязаны беспрекословно признать все наши правила, созданные не для одного, а для всех. К этому обязывает вас и справедливость; мы не мешались в воспитание вашего сына до поступления его в гимназию...
- Но ведь он остается же моим сыном?
- Во всем остальном, кроме гимназии. С момента его поступления ребенок должен понимать и знать, что вся власть над ним в сфере его занятий переходит к его новым руководителям. Если это сознание будет глубоко сидеть в нем - это даст ему возможность благополучно сделать свою карьеру; в противном случае рано или поздно явится необходимость пожертвовать им для поддержания порядка существующего гимназического строя. Это я прошу вас принять, как мой окончательный ультиматум как директора гимназии, а как частный человек - могу только прибавить, что если б даже я желал что-нибудь изменить в этом, то мне ничего другого не оставалось бы сделать, как выйти в отставку. Говорю вам это, чтоб яснее обрисовать положение вещей. Сын ваш, конечно, не будет исключен, и я должен был прибегнуть к такой крутой мере только для того, чтобы прекратить невозможную, говоря откровенно, возмутительную сцену. Безнаказанным его поступка тоже нельзя оставить... для других. Я верю в его невинность и в самом скором времени постараюсь удалить эту язву, Вахнова, которого мы держим из-за раненого отца, оказавшего в севастопольскую кампанию большие услуги городу... Но всякому терпению есть граница. Педагогический совет определит сегодня меру наказания вашему сыну, и сегодня же я уведомлю вас. Больше, к сожалению, я ничего не могу для вас сделать.
Мать Карташева молча, взволнованно встала. В ней все бурлило и волновалось, но она как-то совершенно потеряла под собой почву. Она чувствовала свое полное бессилие и вместе с тем чувствовала, что ее все больше охватывало желание чем-нибудь задеть неуязвимого директора. Но она побоялась повредить сыну и предпочла лучше поскорее уехать.
- Я хотел только сказать, - проговорил, вставая за женой, Карташев, - я вполне разделяю все ваши взгляды... Я сам военный, и странно было бы не сочувствовать вам... Дисциплина... конечно... Но я хотел только вам сказать насчет товарищества... Все ж таки, мне кажется, нельзя отрицать его пользы...
Жена с неудовольствием нетерпеливо ждала конца начатого мужем совершенно бесполезного разговора.
- Совершенно отрицаю в том виде, как оно вообще понимается, - ответил директор, - а именно - скрывать негодяев, заслуживающих наказания.
- Боже мой, - прошептала Карташева, - нашаливший ребенок - негодяй!
И вдруг то, чего она боялась, что еще держала в себе, вылетело как-то само собой:
- Но этот негодяй заслуживает все-таки, чтобы его выслушали, прежде чем осыпать его бранью?
Директор вспыхнул до корня волос.
- Сударыня, если я смею сказать вам у себя в доме... Я сказал бы... Я сказал бы, что не считаю себя ответственным в своих поступках перед вами.
Карташева спохватилась.
- Я прошу вас извинить мою невольную горячность... Это все так ново... пожалуйста, извините... У вашей жены есть дети? - обратилась она с неожиданным вопросом к директору.
- Есть, - озадаченно ответил он.
- Передайте ей, - дрожащим голосом проговорила Карташева, - что я от всего сердца желаю ей и ее детям никогда не пережить того, что пережили сегодня я и мой сын.
И, едва сдерживая слезы, она вышла на лестницу и поспешно спустилась к экипажу.
Сидя в экипаже, она ждала мужа, который остался еще, чтобы какой-нибудь прощальной фразой смягчить впечатление, произведенное его женой на директора... Мысли беспорядочно, нервно проносились в ее голове. Чужая... Совсем чужая... Все пережитое, перечувствованное, выстраданное - не дает никаких прав. Это оценка того, кому непосредственно с рук на руки отдаешь свой десятилетний, напряженный до боли труд. Убийственное равнодушие... Общие соображения?! Точно это общее существует отвлеченно, где-то само для себя, а не для тех же отдельных субъектов... Точно это общее, а не они сами, со временем станет за них в ряды честных, беззаветных работников своей родины... Точно нельзя, не нарушая этого общего, не топтать в грязь самолюбия ребенка.
- Едем, - проговорила она нервно садившемуся мужу, - едем скорее от этих неуязвимых людей, которые думают только о своих удобствах и не в состоянии даже вспомнить, что сами были когда-то детьми.
Вечером было прислано определение педагогического совета. Тёма в течение недели должен был на лишний час оставаться в гимназии после уроков.
На следующий день Тёма с надлежащими инструкциями был отправлен в гимназию уже один.
Поднимаясь по лестнице, Тёма лицом к лицу столкнулся с директором. Он не заметил сначала директора, который, стоя наверху, молча, внимательно наблюдал маленькую фигурку, усердно шагавшую через две ступени. Когда, поднявшись, он увидал директора, - черные глаза последнего строго и холодно смотрели на него.
Тёма испуганно, неловко стащил шапку и поклонился.
Директор едва заметно кивнул головой и отвел глаза.
VII
БУДНИ
Мелкий ноябрьский дождь однообразно барабанил в окна.
На больших часах в столовой медленно-хрипло пробило семь часов утра.
Зина, поступившая в том же году в гимназию, в форменном коричневом платье, в белой пелеринке, сидела за чайным столом, пила молоко и тихо бурчала себе под нос, постоянно заглядывая в открытую, лежавшую перед ней книгу.
Когда пробили часы, Зина быстро встала и, подойдя к Тёминой комнате, проговорила через дверь:
- Тёма, уже четверть восьмого.
Из Тёминой комнаты послышалось какое-то неопределенное мычание.
Зина возвратилась к книге, и снова в столовой раздался тихий, равномерный гул ее голоса.
В комнате Тёмы царила мертвая тишина.
Зина опять подошла к двери и энергично произнесла:
- Тёма, да вставай же!
На этот раз недовольным, сонным голосом Тёма ответил:
- И без тебя встану!
- Осталось всего пятнадцать минут, я тебя ни одной минуты не буду ждать. Я не желаю из-за тебя каждый раз опаздывать.
Тёма нехотя поднялся.
Надев сапоги, он подошел к умывальнику, раза два плеснул себе в лицо водой, кое-как обтерся, схватил гребешок, сделал небрежный раздел сбоку кривой и неровный, несколько раз чеснул свои густые волосы; не докончив, пригладил их нетерпеливо руками и, одевшись, застегивая сюртук на ходу, вошел в столовую.
- Мама приказала, чтоб ты непременно стакан молока выпил, - проговорила Зина.
Тёма только сдвинул молча брови.
- Я не буду такой бурды пить... Пей сама! - ответил Тёма, толкая поданный Таней стакан чаю.
- Артемий Николаевич, мама крепкий же не позволяют.
Тёма посидел несколько мгновений, затем решительно вскочил, взял чайник и подлил себе в стакан крепкого чаю.
Таня посмотрела на Зину, Зина на Тёму; а Тёма, довольный, что добился своего, макал в чай хлеб и ел его, ни на кого не глядя.
- Молоко будете пить? - спросила Таня.
- Полстакана!
После молока Зина встала и, решительно проговорив: "Я больше ни минуты не жду", - начала поспешно собирать свои тетради и книги.
Тёма не спеша последовал ее примеру.
Брат и сестра вышли на подъезд, где давно уже ждал их со всех сторон закрытый, точно облитый водой, экипаж, мокрая Буланка и такой же мокрый, сгорбившийся, одноглазый Еремей.
В экипаже исчезли сперва Зина, а за ней Тёма.
Еремей застегнул фартук и поехал.
Дождь уныло барабанил по крыше экипажа. Тёме вдруг показалось, что Зина заняла больше половины сиденья, и потому он начал полегоньку теснить Зину.
- Тёма, что тебе надо? - спросила будто ничего не понимавшая Зина.
- Ну, да ты расселась так, что мне тесно!
И Тёма еще сильнее нажал на Зину.
- Тёма, если ты сейчас не перестанешь, - проговорила Зина, упираясь изо всех сил ногами, - я назад поеду, к папе!..
Тёма молча продолжал свое дело. Сила была на его стороне.
- Еремей, поезжай назад! - потеряв терпение, крикнула Зина.
- Еремей, пошел вперед! - закричал в то же время Тёма.
- Еремей - назад!
- Еремей - вперед!
Окончательно растерявшийся Еремей остановился и, заглядывая через щель единственным глазом к своим неуживчивым седокам, проговорил:
- Ну ей-же-богу, я слизу с козел, и идьте, як хотыте, бо вже не знаю, кого и слухаты!
Внутри экипажа все стихло. Еремей поехал дальше. Он благополучно добрался до женской гимназии, где сошла Зина. Тёма поехал дальше один.
Фантазия незаметно унесла его далеко от действительности, на необитаемый остров, где он, всласть навоевавшись с дикарями и со всевозможными чудовищами мира, надумался наконец умирать.
Умирать Тёма любил. Все будут жалеть его, плакать; и он будет плакать... И слезы вот-вот уж готовы брызнуть из глаз Тёмы... А Еремей давно уже стоит у ворот гимназии и удивленным глазом смотрит в щелку. Тёма испуганно приходит в себя, оглядывается, по царящей тишине во дворе соображает, что опоздал, и сердце его тоскливо замирает. Он быстро пробегает двор, лестницу, проворно снимает пальто и старается незамеченным проскользнуть по коридору.
Но высокий Иван Иванович, размахивая своими длинными руками, уже идет навстречу. Он как-то мимоходом ловит за плечо Тёму, заглядывает ему в лицо и лениво спрашивает:
- Карташев?
- Иван Иванович, - не записывайте, - просит Тёма.
- Учитель же все равно запишет, - отвечает флегматично Иван Иванович, у которого не хватает духу прямо отказать.
- У нас батюшка... я попрошу...
Иван Иванович нерешительно, нехотя говорит:
- Хорошо...
Тёма отворяет большую дверь и как-то боком входит в свой класс. Его обдает спертым, теплым воздухом, он торопливо кланяется батюшке и спешит озабоченно на свое место.
По окончании урока маленькая фигурка бежит за священником:
- Батюшка, сотрите мне abs*.
______________
* Abs - отсутствует (от лат. absens).
Батюшка идет, переваливаясь с боку на бок, не спеша откидает свою шелковую рясу, достает платок, сморкается и спрашивает Тёму:
- А зачем же вы опаздываете?
За Тёмой и батюшкой, толкаясь, бежит целый хвост любопытных учеников. Всякому интересно хоть одним ухом послушать, в чем дело.
- У нас часы отстают, - отвечает Тёма, понижая голос так, чтобы другие не слышали. - Я теперь их поставлю на четверть часа вперед.
- Вы часов не портите, а лучше сами вставайте на четверть часа раньше, - говорит батюшка и исчезает в дверях учительской.
Хвост фыркает.
Тёма подавляет недоумение, делает беспечную физиономию перед насмешливо смотрящими на него учениками и спешит в класс. Там он садится на свое место, поднимает оба колена, упирается ими в скамью и, стараясь смотреть равнодушно, вдумывается в смысл батюшкиных слов.
Вахнов свернул бумажку и, помочив ее слюнями, водит ею вокруг шеи и лица Тёмы. Тёма досадливо говорит:
- Ну, отстань же!
Но Вахнов не отстает.
- Ну, что ты за свинья! - говорит Тёма.
В ответ Вахнов хватает Тёму за руку и выкручивает ее ему за спину. У Тёмы закипает бессильная злоба, ему хочется "треснуть" Вахнова, и он пускается на хитрость.
- Ну, оставь же, - повторяет уже ласково Тёма.
Вахнов смягчается, снисходительно дает Тёме щелчок и выпускает его руку. Тёма быстро вскакивает на скамью и, "треснув" Вахнова, мчится от него по скамьям. Верзила Вахнов несется за ним. Тёма прыгает на пол и бросается к двери. Вахнов настигает его, мнет и со всего размаха бьет ладонью по лопаткам.
- Ну, что ты за свинья?! - говорит тоскливо Тёма.
Вахнов отвечает увесистыми шлепками.
- Оставь же, - уже жалобно молит Тёма. - Ну, что ты меня мучишь?
В голосе Тёмы слышатся Вахнову слезы. Ему делается жаль Тёму.
- Му-мочка! - говорит Вахнов и опять, уже от избытка чувств, тискает Тёму.
По коридору идет молодой, в очках, учитель латинского языка Хлопов. При входе учителя все уже по местам. Хлопов внимательно осматривает класс, быстро делает перекличку, затем сходит с своего возвышения и весь урок гуляет по классу, не упуская ни на мгновение никого из виду. Проходя мимо скамьи, где сидит маленький с кудрявой головой и потешной птичьей физиономией Герберг, учитель останавливается, нюхает воздух и говорит:
- Опять чесноком воняет?!
Герберг краснеет, так как аромат несется из его ящика, где лежит аппетитный кусок принесенной им для завтрака фаршированной щуки.
- Я вас в класс не буду пускать! Что это за гадость?! Сейчас же вынесите вон! - И, помолчав, говорит вслед уносящему свое лакомство Гербергу:
- Можете себе наслаждаться, когда уж так нравится, дома.
Ученики фыркают, смотрят на Герберга, но на лице последнего, кроме непонимания: как может не нравиться такая вкусная вещь, как фаршированная щука, - ничего другого не отражается. Тёма с любопытством смотрит на Герберга, потому что он сын Лейбы, и Тёма, постоянно видевший Мошку за прилавком отца, никак не может освоиться с фигурой его в гимназическом сюртуке.
- Корнев, склоняйте, - говорит учитель.
Корнев встает, перекашивает свое и без того некрасивое, вздутое лицо и кисло начинает хриплым, низким голосом.
Учитель слушает и раздраженно морщится.
- Да что вы скрипите, как немазаная телега? Ведь, наверно же, во время рекреации* умеете говорить другим голосом.
______________
* Перемена (от лат. recreatio).
Корнев прокашливается и начинает с более высокой ноты.
- Иванов, продолжайте...
Сосед Тёмы, Иванов, встает, смотрит своими косыми глазами на учителя и продолжает.
- Неверно! Вахнов, поправить!
Вахнов встрепанно вскакивает и молчит.
- Карташев!
Тёма вскакивает и поправляет.
- Ну? Дальше!
- Я не знаю, - угрюмо отвечает Иванов.
- Вахнов!
- Я вчера болен был.
- Болен, - кивает головой учитель. - Карташев!
Тёма встает и вздыхает: недаром он хотел повторить перед уроком - все выскочило из головы.
- Ну, не знаете, говорите прямо!
- Я вчера учил.
- Ну, так говорите же!
Тёма сдвигает брови и усиленно смотрит вперед.
- Садитесь!
Учитель в упор осматривает Вахнова, Карташева и Иванова.
Вахнов самодовольно водит глазами из стороны в сторону. Иванов, сдвинув брови, угрюмо смотрит в скамью. Затянутый, бледный Тёма огорченно, пытливо всматривается своими испуганными голубыми глазами в учителя и говорит:
- Я вчера знал. Я испугался...
Учитель пренебрежительно фыркает и отворачивается.
- Яковлев, фразы!
Встает первый ученик Яковлев и уверенно и спокойно говорит:
- Asinus excitatur baculo.
- Швандер! Переводите.
Встает ненормально толстый, упитанный, чистенький мальчик. Он корчит болезненные рожи и облизывается.
- Пошел облизываться! Да что вы меня есть собираетесь, что ли?!
Ученики смеются.
Швандер судорожно нажимает большой палец на скамью, делает усилие и говорит:
- Осел...
- Ну?
- Погоняется...
Швандер делает еще одну болезненную гримасу и кончает:
- Палкою.
- Слава богу, родил.
Вторая половина урока посвящается письменному ответу.
Учитель ходит и внимательно следит, чтобы не списывали. Глаза его встречаются с глазами Данилова, в которых вдруг что-то подметил проницательный учитель.
- Данилов, дайте вашу книжку.
- У меня нет книжки, - говорит, краснея, Данилов и неловко поднимается с места, зажимая в то же время коленями латинскую грамматику.
Учитель заглядывает и собственноручно вытаскивает злополучную книгу.
Данилов сконфуженно смотрит в скамью.
- Тихоня, тихоня, а мошенничать уже научился. Стыдно! Станьте без места!
Симпатичная сутуловатая фигура Данилова как-то решительно идет к учительскому месту и становится лицом к классу. Его сконфуженные красивые глаза смотрят добродушно и открыто прямо в глаза учителю.
Раздается давно ожидаемый, отрадный для ученического слуха звонок.
- К следующему классу...
Учитель задает по грамматике, потом фразы с латинского на русский, затем сам диктует с русского на латинский и, отняв еще пять минут из рекреационных, наконец уходит.
Больше всего огорчают учеников эти лишние пять минут.
После урока Хлопова как-то мало оживления. Большинство сидит в любимой позе - с коленками, упертыми в скамью, и устало, бесцельно смотрит.
На учительском возвышении неожиданно появляется старый, толстый учитель русского языка.
- У попугая на шесте было весело! - монотонно, нараспев тянет он и чешет свою лысину о приставленную к ней линейку.
Тёме с Вахновым тоже весело, и никакого дела им нет ни до попугая, ни до учителя, ни до его системы, в силу которой учитель считал необходимым прежде всего ознакомить детей с синтаксисом.
- Герберг, где подлежащее?
- На шесте, - вскакивает Герберг и впивается своей птичьей физиономией в учителя.
- Дурак, - тем же тоном говорит учитель, - ты сам на шесте... Карташев!..
Тёма, только что получивший в самый нос щелчок, встрепанно вскакивает и в то же мгновение совсем исчезает, потому что Вахнов ловким движением своей ноги сталкивает его на пол.
- Карташев, ты куда девался? - кричит учитель.
Тёма, красный, появляется и объясняет, что он провалился.
- Как ты мог провалиться, когда под тобою твердый пол?
- Я поскользнулся...
- Как ты мог поскользнуться, когда ты стоял?
Вместо ответа Тёма опять едет под скамью. Он снова появляется и с ожесточенным отчаянием смотрит украдкой на Вахнова. Вахнов, положив локоть на скамью, прижимает ладонью рот, чтобы не прыснуть, и не смотрит на Тёму. Тёма срывает сердце незаметным пинком Вахнову в плечо, но учитель увидел это и обиделся.
- Карташеву единицу за поведение.
Лысая, как колено, голова учителя наклоняется и ищет фамилию Карташева. Тёма, пока учитель не видит, еще раз срывает свой гнев и теребит Вахнова за волосы.
- Карташев, где подлежащее?
Тёма мгновенно бросает Вахнова и ищет глазами подлежащее.
Яковлев, отвалившись вполуоборот с передней скамьи, смотрит на Тёму. "Подскажи!" - молят глаза Тёмы.
- У попугая, - шепчет Яковлев, и ноздри его раздуваются от предстоящего наслаждения.
- У попугая, - подхватывает радостно Тёма.
Общий хохот.
- Дурак, ты сам попугай. С этих пор Карташев не Карташев, а попугай. Герберг не Герберг, а шест. Попугай на шесте - Карташев на Герберге.
Класс хохочет. Яковлев стонет от восторга.
Толстая, громадная фигура учителя начинает слегка колыхаться. Добродушные маленькие серые глаза прищуриваются, и некоторое время старческое "хе-хе-хе" несется по классу.
Но вдруг лицо учителя опять делается серьезным, класс стихает, и тот же монотонный голос нараспев продолжает:
- В классе - где подлежащее?
Гробовое молчание.
- Дурачье, - добродушно, нараспев говорит учитель. - Все попугаи и шесты. Сидят попугаи на шестах.
Между тем Тёма не спускает глаз с Яковлева.
- Разве он смеет подсказать глупости? - не то советуется, не то протестует Тёма, обращаясь к Вахнову.
Как только раздается звонок, он бросается к Яковлеву:
- Ты смеешь глупости подсказывать?!
- А тебе вольно повторять, - пренебрежительно фыркает Яковлев.
- Так вот же тебе! - говорит Тёма и со всего размаха бьет его кулаком по лицу. - Теперь подсказывай!
Яковлев первое мгновенье растерянно смотрит и затем порывисто, не удостоивая никого взглядом, быстро уходит из класса. Немного погодя появляется в дверях бритое, широкое лицо инспектора, а за ним весь в слезах Яковлев.
- Карташев, подите сюда! - сухо и резко раздается в классе.
Тёма поднимается, идет и испуганно смотрит в выпученные голубые глаза инспектора.
- Вы ударили Яковлева?
- Он...
- Я вас спрашиваю: ударили вы Яковлева?
И голос инспектора переходит в сухой треск.
- Ударил, - тихо отвечает Тёма.
- Завтра на два часа без обеда.
Инспектор уходит. Тёма, воспрянувший от милостивого наказания, победоносно обращается к Яковлеву и говорит:
- Ябеда!
- А по-твоему, ты будешь по морде бить, а тебе ручки за это целовать? грызя ногти и впиваясь своими маленькими глазами в Тёму, ядовито-спокойно спросил Корнев.
Вошел новый учитель - немецкого языка, Борис Борисович Кноп. Это была маленькая, тщедушная фигурка. Такие фигурки часто попадаются между фарфоровыми статуэтками: в клетчатых штанах и синем, с длинными узкими рукавами, фраке. Он шел тихо, медленною походкой, которую ученики называли "раскорякой".
В Борисе Борисовиче ничего не было учительского. Встретив его на улице, можно было бы принять его за портного, садовника, мелкого чиновника, но не за учителя.
Ученики ни про одного учителя ничего не знали из его домашней жизни, но про Бориса Борисовича знали всё. Знали, что у него жена злая, две дочки старые девы, мать - слепая старуха, горбатая тетка. Знали, что Борис Борисович бедный, что он трепещет перед начальством не хуже любого из них. Знали и то, что Борису Борисовичу можно перо смазывать салом, в чернильницу сыпать песок, а в потолок, нажевав бумаги, пускать бумажных чертей.
В последнее время Борис Борисович стал заметно подаваться.
Сделав перекличку, он с трудом сошел с возвышения, на котором стоял его стол, и расслабленно, по-стариковски, остановившись перед классом, начал не спеша вынимать из заднего кармана фрака носовой платок.
Высморкавшись, Борис Борисович поднял голову и обратился к ученикам с благодушной речью, в которой предложил им не шуметь, слушать спокойно урок и быть хорошими, добрыми детьми.
- Пожалуйста, - кончил Борис Борисович, и в голосе его зазвучала просьба усталого, больного человека.
Но Борис Борисович сейчас же спохватился и уже более строго прибавил:
- А кто не захочет смирно сидеть, того я без жалости буду совсем строго наказывать.
Несколько минут все шло хорошо. Болезненный вид учителя смирил учеников. Но Вахнов, уже наладив опытной рукой перо, издал им тонкий, тревожный, хорошо знакомый учителю звук.
Борис Борисович вскипел.
- Вы свиньи, и с вами нельзя по-человечески говорить... Вы тогда только чувствуете уважение к человеку, когда он вас вот как душить будет.
И, дрожа от бешенства, Борис Борисович поднял свой кулачок и показал, как будет душить.
- Ах ты, немецкая селедка! - прошептал кто-то и, разжевав бумагу, искусно влепил ее в борт фрака Бориса Борисовича.
– Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.
– Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья – это те камни, из которых сложен этот зал.
Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет своей дорогой.
Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна скрепя сердце отпускала сына.
Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.
– Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, – сказал он матери с силой и выразительностью, – а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь негодяем: я разобью свою жизнь…
– Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.
Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:
– Мама, я иду к Корневу.
И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала головой.
ГИМНАЗИЯ
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие – уважения, третьи – ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Добрая амфибия – надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия – учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
– Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.
Насытившийся единицами и двойками учитель только водил своими опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в учительскую.
Нельзя сказать, чтоб это был злой человек, но вниманием его пользовались исключительно оторопелые, и по мере того как эти жертвы под его опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те, в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки. Хлопов и между учителями не пользовался симпатией, и кто из учеников заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко бегающим из угла в угол, с красным возбужденным лицом, с видом обиженного человека.
Он говорил быстро и слегка заикаясь. Несмотря на молодость, у него уже было порядочно отвислое брюшко.
Маленькие жертвы, умевшие плакать перед ним и целовать его руки, за глаза, пораженные, вероятно, несоответственностью его брюшка, называли его «беременной сукой».
В общем, это был тиран – убежденный и самолюбивый, про которого рассказывали, что на юбилее Каткова, когда того качали, он так подвернулся, что Катков очутился сидящим на его спине. Так и звали его поэтому в старших классах: катковский осел.
Учитель словесности, Митрофан Семенович Козарский, был маленький мрачный человек со всеми признаками злой чахотки. На голове у него была целая куча нечесаных, спутанных курчавых волос, в которые он то и дело желчно запускал свою маленькую, с пальцами врозь, руку. Он всегда носил темные, дымчатые очки, и только изредка, когда снимал их, чтобы протереть, ученики видели маленькие серые, злые, как у цепной собаки, глаза. Он и рычал как-то по-собачьи. Трудно было заставить его улыбнуться, но когда он улыбался, еще труднее было признать это за улыбку, точно кто насильно растягивал ему рот, а он всеми силами этому противился. Ученики хотя и боялись его, и зубрили исправно разные древние славянские красоты, но и пытались заигрывать с ним.
Такое заигрыванье редко сходило даром.
Однажды, как только кончилась перекличка, Карташев, считавший своею обязанностью во всем сомневаться, что, впрочем, выходило у него немного насильственно, встал и решительным, взволнованным голосом обратился к учителю:
– Митрофан Семенович! Для меня непонятно одно обстоятельство в жизни Антония и Феодосия.
– Какое-с? – сухо насторожился учитель.
– Я боюсь спросить вас, так оно несообразно.
– Говорите-с!
Козарский нервно подпер рукою подбородок и впился в Карташева.
Карташев побледнел и, не сводя с него глаз, высказал, хотя и путано, но в один залп, свои подозрения в том, что в назначении боярина Федора было пристрастие.
По мере того как он говорил, брови учителя подымались все выше и выше. Карташеву казалось, что на него смотрят не очки, а темные впадины чьих-то глаз, страшных и таинственных. Ему вдруг сделалось жутко от своих собственных слов. Он уж рад был бы и не говорить их, но все было сказано, и Карташев, замолчав, подавленный, растерянный, глупым, испуганным взглядом продолжал смотреть в страшные очки. А учитель все молчал, все смотрел, и только ядовитая гримаса сильнее кривила его губы.
Густой румянец залил щеки Карташева, и мучительный стыд охватил его. Наконец Митрофан Семенович заговорил тихо, размеренно, и слова его закапали, как кипяток, на голову Карташева:
– До такой гадости… до такой пошлости может довести человека желанье вечно оригинальничать…
Класс завертелся в глазах Карташева. Половина слов пролетела мимо, но довольно было и тех, которые попали в его уши. Ноги подкосились, и он сел, наполовину не сознавая себя. Учитель нервно, желчно закашлялся и схватился своей маленькой, растрепанной рукой за впалую грудь. Когда припадок прошел, он долго молча ходил по классу.
– В свое время в университете с вами подробно коснутся того печального явления в нашей литературе, которое вызвало и вызывает такое шутовское отношение к жизни.
Намек был слишком ясен и слишком обидным показался для Корнева.