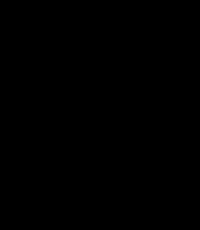Предисловие к сборнику стихов мой край журавлиный. Музыкальные произведения о природе: подборка хорошей музыки с рассказом о ней
ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ СТИХОТВОРЕНИЙ ИОСИФА БРОДСКОГО
От стихотворения мы ждем двух вещей. Во-первых, оно должно быть искусным примером словесного творчества и делать честь языку, на котором оно написано. Во-вторых, оно должно сообщать дополнительный смысл реальности, общей для всех, но увиденной с новой точки зрения. То, что говорит поэт, не говорилось до него никогда, но, будучи сказанным, его слово должно восприниматься читателем как должное.
Полноценное суждение о языковом аспекте стихотворения доступно, разумеется, лишь тому, для кого язык, на котором стихотворение написано, является родным. Не зная русского, я вынужден оценивать английский перевод, поэтому догадки здесь неизбежны. Мой первый довод в пользу того, что переводы профессора Клайна достойны оригинала, заключается в том, что они с первых строк убеждают: Иосиф Бродский - это искусный ремесленник слова. В его большом стихотворении «Элегия Джону Донну», например, глагол «уснул» повторяется, если я правильно сосчитал, пятьдесят два раза. Подобное повторение может раздражать своей нарочитостью, чего не происходит, ибо мы имеем дело с законченным произведением искусства.
Из переводов опять-таки видно, что господин Бродский владеет широким спектром поэтических интонаций: от лирической («Рождественский романс») и элегической («Стихи на смерть Т. С. Элиота») до комических и гротесковых («Два часа в резервуаре») - и с одинаковой легкостью использует самые разнообразные ритмы и размеры, короткую и длинную строки, ямб, анапест, мужские рифмы и рифмы женские - как, например, в стихотворении «Прощайте, мадмуазель Вероника»:
Если кончу дни под крылом голубки,
что вполне реально, раз мясорубки
становятся роскошью малых наций -
после множества комбинаций
Марс перемещается ближе к пальмам;
а сам я мухи не трону пальцем…
Об исключительности и в то же время адекватности поэтического видения легче, как ни странно, судить иностранцу, ибо его слух не впадает в зависимость от языка, на котором стихотворение написано.
Господин Бродский - поэт не из легких, но даже беглый просмотр его стихотворений покажет, что, подобно Ван Гогу и Вирджинии Вулф, он обладает необычайной способностью видеть в материальных предметах сокровенные знаки, - видеть их как посланников невидимого. Вот несколько тому примеров:
Огонь, ты слышишь, начал угасать.
А тени по углам - зашевелились.
Уже нельзя в них пальцем указать,
прикрикнуть, чтоб они остановились.
(«Огонь, ты слышишь…»)
Подушку обхватив, рука
сползает по столбам отвесным,
вторгаясь в эти облака
своим косноязычным жестом.
О камень порванный чулок,
изогнутый впотьмах, как лебедь,
раструбом смотрит в потолок,
как будто почерневший невод.
(«Загадка ангелу»)
…И зонт сложи, как будто крылья - грач.
И только ручка выдаст хвост пулярки.
(«Еinem alten architeken in rот»)
Не то, чтобы весна,
но вроде.
Разброд и кривизна.
В разброде
деревни - все подряд
Лишь полный скуки взгляд -
(«В распутицу»)
В отличие от творчества современников творчество господина Бродского, как мне кажется, отстоит довольно далеко от массовой, публичной поэзии в духе Маяковского. Бродский никогда не «играет» фортиссимо. Вообще же я более склонен рассматривать его как традиционалиста. Начать с того, что при любой возможности он выказывает глубокое уважение и приверженность к прошлому своей страны:
Вот так, по старой памяти, собаки
на прежнем месте задирают лапу.
Ограда снесена давным-давно,
но им, должно быть, грезится ограда.
Для них тут садик, говорят вам - садик.
А то, что очевидно для людей,
собакам совершенно безразлично.
Вот это и зовут «собачья верность».
И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах.
(«Остановка в пустыне»)
Его традиционность заключается также и в том, что ему интересны все те самые вопросы, которые интересуют всех поэтов, то есть личная интерпретация природы и человеческих ценностей, любви и разлуки; размышления о сущности человека, о смерти, о смысле бытия.
Его стихи аполитичны - я бы даже сказал, вызывающе аполитичны, - и только этим, пожалуй, можно объяснить тот факт, что его поэзия до сих пор не получила официального признания, ибо в его стихах я не нашел даже намека на то, в чем самый строгий цензор усмотрел бы разрушительные или аморальные свойства. Единственные «преднамеренно» политические строки в его стихах - следующие:
Адье, утверждавший «терять, ей-ей,
нечего, кроме своих цепей».
И совести, если на то пошло, -
(«Письмо в бутылке»)
строки, с которыми согласился бы каждый истинный марксист. Что касается творческого кредо господина Бродского, вряд ли кто-нибудь из поэтов стал бы спорить с тем, что,
Наверно, тем искусство и берет
что только уточняет, а не врет,
поскольку основной его закон,
бесспорно, независимость деталей.
(«Подсвечник»)
Прочитав переводы профессора Клайна, нет нужды откладывать следующее признание: Иосиф Бродский - это русскоязычный поэт первого порядка, человек, которым должна гордиться его страна. Я же горд за них обоих.
Из книги Хозяева дискурса: американо-израильский терроризм автора Шамир ИсраэльОСТРОВ БУЯН (Предисловие к сборнику) Не знаю, как благодарные потомки оценят мой вклад в «мировую антибуржуазную мысль», но постараюсь описать его кратчайшим образом для современников. Мне, как и вам, мой читатель, выпало жить в интересную эпоху, похерившую
Из книги Том 15. Статьи о литературе и искусстве автора Толстой Лев НиколаевичПредисловие к сборнику «Цветник» Порождения ехидны! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное
Из книги Избранная публицистика автора Стругацкий Аркадий НатановичБорис Стругацкий ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ (Предисловие к сборнику «Фантастика: четвертое поколение») Предлагаемый сборник состоит полностью и исключительно из произведений тех авторов, что принадлежат к Четвертому поколению советских фантастов, к поколению 70-х.Даже
Из книги Дошкольное воспитание. Вопросы семейного воспитания и быта автора Крупская Надежда КонстантиновнаПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА О РАСКРЕПОЩЕНИИ ЖЕНЩИНЫ» С самого начала своей деятельности Ленин с особым вниманием относился к вопросу о раскрепощении женщины. С большой радостью подчеркивал он каждый успех на фронте раскрепощения женщины-работницы,
Из книги Сатирические очерки автора де Ларра Мариано ХосеПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА - ДОШКОЛЬНИКА» Вопрос о яслях, детских садах, детплощадках неразрывно связан с вопросом о раскрепощении женщины-работницы, женщины-крестьянки от целого ряда забот, мелких домашних дел, которые непомерно загружали женщину,
Из книги Иосиф Бродский. Большая книга интервью автора Полухина ВалентинаПредисловие к сборнику театральных, литературных, политических и нравоописательных очерков, опубликованных в 1832, 1833 и 1834 годах в «Испанском обозрении» и «Наблюдателе» Не знаю, что за интерес может возбудить у публики сборник, который я ей предлагаю. Каков бы ни был этот
Из книги Статьи, эссе автора Цветаева Марина Из книги Том 5. Книга 1. Автобиографическая проза. Статьи автора Цветаева МаринаПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ИЗ ДВУХ КНИГ» Для того я (в проявленном - сила) Все родное на суд отдаю, Чтобы молодость вечно хранила Беспокойную юность мою. «Волшебный фонарь» Все это было. Мои стихи - дневник, моя поэзия - поэзия собственных имен.Все мы пройдем. Через
Из книги Стихи и эссе автора Оден Уистан ХьюПредисловие к сборнику «Из двух книг» Для того я (в проявленном - сила) Все родное на суд отдаю, Чтобы молодость вечно хранила Беспокойную юность мою. «Волшебный фонарь» Все это было. Мои стихи - дневник, моя поэзия - поэзия собственных имен.Все мы пройдем. Через
Из книги Свобода – точка отсчета [О жизни, искусстве и о себе] автора Вайль ПетрПредисловие Одена к сборнику стихов Иосифа Бродского (1973) Каждый требует от поэзии двух вещей. Во-первых, это должен быть умело созданный устный объект, в котором действительно соблюдаются правила языка, на котором он написан. Во-вторых, должно быть сказано нечто
Из книги Том 14 автора Уэллс ГербертПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ СТИХОТВОРЕНИЙ ИОСИФА БРОДСКОГО От стихотворения мы ждем двух вещей. Во-первых, оно должно быть искусным примером словесного творчества и делать честь языку, на котором оно написано. Во-вторых, оно должно сообщать дополнительный смысл реальности,
Из книги Небесная канцелярия [сборник] автора Векшин Николай Л.Как поэты спасли мир Заметки на полях Нобелевской лекции Иосифа Бродского Нобелевское выступление Бродского уже функционирует в общественной жизни Америки. Мы имеем в виду, например, высказывание: «Потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде
Из книги автора«Август» в январе О последнем стихотворении Иосифа Бродского в первую годовщину его смерти Написанный за несколько дней до смерти, 28 января 1996 года, «Август» как бы снабжен сразу тремя различными знаками читательского препинания. Разумеется, это точка: единственное
Из книги автораЖурнал в Америке Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем Петр Вайль. Иосиф, вы очень часто печатались в «Нью-йоркере». Как это произошло технически? Кто кого обнаружил? Иосиф Бродский. Как правило, стихи предлагались переводчиками, чаще других в 70-е годы - Джорджем
Из книги автораПредисловие к сборнику «Семь знаменитых романов» Мистер Кнопф попросил меня написать предисловие к этому сборнику моих фантастических повестей. Они помещены в хронологическом порядке, но позвольте мне сразу предупредить тех, кто не знаком пока ни с одной из моих вещей,
Из книги автораПамяти Иосифа Бродского (читать монотонно вслух, с легким подвыванием) Среди темных аллей вдалеке от несчастной России Я по берегу Сены шагаю неспешно и важно пешком. И прохожие смотрят и смотрят мне пристально в спину, Но не в курсе они, что ведь я диссидент и поэт (и
I. Теоретические предпосылки
История художественной литературы не имеет своего философа, который подчинил бы эволюцию ее содержания каким-либо определенным законам и уловил внутренний смысл ее развития. В прихотливой смене идей, сюжетов и настроений, отличающей индивидуальное словесное творчество, не подмечены сколько-нибудь точно и доказательно господствующие и необходимые линии, и до сих пор только призрачными, а не реальными нитями связаны литературные факты с общественной средой, с особенностями исторического момента, со всею совокупностью культуры вообще.
И это так естественно: пусть литература и философия имеют между собою много общего, даже переходят одна в другую, – но ведь последняя движется или хочет двигаться исключительно под знаком разума, она дышит мыслью и полагает своим идеалом осуществленную систему логической законченности, между тем как первая своею основной стихией имеет прихотливое море чувства и фантазии с его многообразными оттенками, со всей изменчивостью его тончайших переливов и осложнений. И поскольку мысль и чувство разнятся между собою, постольку это одно уже делает литературу «беззаконной кометой в кругу расчисленном светил».
Оттого и рушились до нынешнего времени всякие попытки ввести ее целиком в русло закономерности, сделать ее объектом науки в истинном и обязывающем смысле этого великого слова.
Правда, на первый взгляд может показаться, что история литературы – наука в том значении, какое придает этому термину Генрих Риккерт. По известной классификации немецкого мыслителя, история художественного слова относится к наукам не о природе, а о культуре, т. е. она ведает не первичное, изначала данное, то, что люди застали, а то, что они переработали в глубине своего сознания, и потому в связи с этим она, в противоположность естествоведению, совсем и не должна устанавливать общих законов, обязательных норм, и предметом ее служит не типическое, не родовое, а то, что однозначно, однократно и в своей обособленной единственности не повторяется больше никогда. Так из-за того, что история литературы не определяет никаких закономерностей, не предвидит будущего, может быть, мы еще не имеем права свергать ее с престола наукообразности?
Однако сам Риккерт признает, что науки исторические, о культуре, т. е., еще раз, о таких фактах, из которых каждый в своей внутренней сути дан только в единственном числе, – названные науки лишь при том условии заслуживают своего имени, если они свои объекты, все эти однократные, единичные, неповторяемые в своей специфичности явления, возводят на степень некоторой общей и обязательной категории – именно категории ценности, идеала. Между тем, вопреки Риккерту, привнесение момента ценности само по себе уже строгую наукообразность разрушает. Где оценка и качественность, там нет науки. Великие мировые категории добра и красоты, может быть, нужнее науки, внутренне-убедительнее, чем она; но доказать их безусловность и неоспоримость нельзя, и потому где приходится апеллировать к ним, там невозможно установление объективных и обязательных законов и там науки не будет.
Мало того: там не существует даже устойчивого и бесспорного материала, над которым научное ведение могло бы работать. В самом деле: каким объективным критерием руководиться уже при отборе материала, что изучать, о чем говорить? В нашем случае, построяя историю литературы, какие именно произведения слова брать предметом изыскания? Талантливые, запечатленные гением художественности, не правда ли? Но где же, в какой палате мер и весов хранится то абсолютное мерило, которым определяется самая наличность гения и его степень? Мы называем иные произведения классическими, но разве так уже непроницаема эта броня классицизма и разве с этой прославленной высоты не сбрасывают часто увенчанных богов? Что же, постеснился ли Толстой признать бездарным того, перед кем целые столетия коленопреклоненно стояло все культурное человечество?
Если скажут, что историк литературы вовсе не талантливостью ее созданий руководится, что ведь изучает же он, например, Тредиаковского, то это будет лишь иллюзия и недоразумение. Ибо Тредиаковским в конце концов интересуются только потому, что после него был Пушкин. Если бы не сравнивали, если бы издалека и косвенно не отправлялись от какой-нибудь эстетической ценности, от какой-нибудь признанной (хотя и недоказуемой) величины, то историк литературы прошел бы мимо целой толпы незаметных и ничтожных. Только путеводная звезда гениальности освещает ему дорогу, и только чужому дарованию обязаны бездарные тем, что их замечают.
Или, может быть, историку литературы при выборе материала достаточно опираться на общепризнанное и общепринятое и вовсе не надо ему брать на себя обязанность самостоятельной оценки? Но разве не чувствуется, как шатка подобная опора? И если мы забудем, что по отношению к красоте неприменимы никакие плебисциты, что той науке, которая предметом своим имеет искусство, не подобает считаться с принципом большинства и спрашиваться у статистики, то историк литературы должен будет гораздо меньше изучать Шекспира, чем Вербицкую.
Так неустойчив самый материал истории художественной словесности; он исчезает, не поддается никакому строго определенному методу; а без материала и без метода – где же наука?
Ее все-таки хотели для литературы создать, и притом по образу и подобию естествознания. Известно, какая заманчивая попытка связана с именами Тэна и Брюнетьера. Они требовали, чтобы историк литературы уподобился ботанику, который с одинаковым интересом изучает и апельсинное дерево и сосну, и лавр и березу, ароматный цветок и сухую былинку. Но упомянутые писатели, очевидно, не отдавали себе ясного отчета в той разнице, какая существует между явлениями природы и явлениями человеческого творчества. Не только былинок, но и роз душистых и апельсинных деревьев на свете очень много, и все это множество объединено между собою, в своей сущности, общими признаками, – тогда как всякое художественное произведение сущность свою имеет как раз не в том, чем оно родственно с другими, с фактами той же внешней группы явлений, а, наоборот, именно в том, чем оно от них отличается. Разница, а не сходство, отличительные признаки, а не общие свойства – вот что главное в искусстве. Есть одна «Божественная комедия», и ее божественность, т. е. ее сущность, заключается именно в том, чем она разнится от других комедий. И сущность каждого писателя не в том, чем он похож на другого писателя. То, чем один экземпляр сосны отличается от другого, это не существенно: именно потому сосны и могут составлять объект науки; но художественные создания обретаются каждое лишь в одном экземпляре, и в этой единственности только и состоит их природа, их зерно, то, что их делает ими, и потому для каждого из них должна бы быть своя особая наука, а это и значит, что ни одно из них науке не подлежит.
Возможно, разумеется, спокойное, вне оценки лежащее бесстрастное изучение сухих былинок литературы, всей той груды ремесленных поделок из слова, которая выбрасывается на книжные рынки; и если какая-нибудь из них оказывает сильное влияние на общество, то, как бы ничтожен ни был ее эстетический удельный вес, она непременно должна быть наукой учтена – но какою наукой? Не историей литературы, а историей общественности: это будет уже история читателей, а не писателей, это будет уже социология, а не словесность. С романом Чернышевского «Что делать?» русской литературе нечего делать… но историк русской общественности, безусловно, примет его в поле своего зрения.
Итак, размежеваться необходимо: одно дело – влияние слова, другое дело – самое слово. А в области последнего, т. е. в литературе как литературе, быть ботаником, обойтись без оценки, без эстетики, невозможно: художественную критику вольно или невольно, сознательно или бессознательно привлекают в свою дисциплину все историки литературы, за пределами качественности они не держатся – а, повторяем, где качественность и оценка, там нет науки, там произвол вкуса и недоказуемость субъективных впечатлений.
Чтобы наукообразность спасти, чтобы наука была, Тэн попытался сущность литературных явлений понять как органическое следствие трех определяющих факторов: расы, среды и момента. Бросается в глаза, что, даже после всех смягчений и оговорок автора, среди этих причин, объясняющих литературное творчество, у Тэна в действительности отсутствует сам творец. Нет писателя. Тэн вычеркивает главное; он обходится без необходимого. И даже критики его (как Геннекэн) недостаточно выдвигали тот случайный элемент, который называется индивидуальностью писателя, – эту великую случайность, которая превыше всякой необходимости.
Раса, среда и момент – все это влияет, конечно. Однако, когда говорят о влиянии, забывают обыкновенно ту живую среду, которая его испытывает. Выясняют субъекты влияния, а не его объект (которому на самом-то деле гораздо больше подобает имя субъекта). То, что влияния принимает (или отвергает), та глубокая действенность, которая находится во главе угла и представляет самое средоточие искусства, нерв литературы, это – личность. Между тем как раз ее на самый последний план отодвигают и сторонники Тэна, и, еще больше, исторические материалисты, для которых литература в конечном счете определяется хозяйственной структурой общества, классовой борьбой, вообще социальными отношениями, жизнью коллектива, группы, – где же здесь остается место для одинокой личности? Не проще ли в самом деле отвязаться от нее, приняв ее за quantite negligeable ?..
Социальные и политические факторы на литературу, несомненно, влияют. Только горе именно в том, что это слишком несомненно. Такое общее утверждение стоит необычайно дешево, и науке с ним делать нечего. Ибо все влияет на все, ничего не существует в замкнутой разобщенности, и самый свет наш, вся природа – это общество, система, бесконечно сложная связь переплетающихся между собою элементов. И не тогда, конечно, история литературы обратится в науку, когда ее будут воздвигать на почве таких невинных в своей бесспорности положений. Не то важно, что расовые, хозяйственные и политические факторы так или иначе на литературу влияют, а то необходимо выяснить и такой надо вопрос поставить, обусловливают ли они, создают ли они неизбежно самую сущность того явления, которое называется художественной литературой, или же они позволяют нам бродить лишь вокруг да около этой сущности, не в центре изучаемого факта, а только в далеких его окрестностях.
Если исследователи литературы, принадлежащие к так называемому историко-культурному типу, не идут в своих утверждениях столь прямолинейно, как натуралисты или экономисты, то и они для своего изветшавшего знамени имеют очень бессодержательный и опошленный трафарет, вроде того, что «писатель – продукт своего времени», «гений – выразитель своей эпохи». Они тоже больше всего озабочены старанием понять художника в связи с его веком – точно самое существование такой внутренней, а не внешней связи уже представляет собою доказанный факт. Наиболее обычное следствие подобных историко-литературных изучений таково, что их авторы, поставив себе две цели, не достигают ни одной. Они искажают облик и писателя, и его эпохи: не оказывается ни человека, ни века.
То слишком общее слово эпоха или время, которое они употребляют и которым злоупотребляют, не может облекать собою какого-нибудь точного и определенного понятия. Возникает искушение гипостазировать такие идеи, как столетие, десятилетие, дух времени, переходная эпоха (хотя всякая эпоха – переходная); оперируют ими, как величинами, которые будто бы известны и понятны. Между тем кто отважится сказать, что он действительно постиг дух какого бы то ни было времени, что он остался при этом на должной высоте объективности и не внес в свое определение, в свою характеристику данного периода, ничего субъективного? Охватить в исчерпывающем синтезе время, дать имя эпохе – это никому не под силу; во всяком случае, это – дело интуиции, а не науки: это само – творчество.
И потому гораздо фактичнее, гораздо «научнее» (если уж вообще говорить о научности) при исследовании художественной словесности обращать главное и особенное внимание на тот неизбежный и самоочевидный, на тот бесспорный фактор литературы, каким является сам писатель, т. е. его творческая индивидуальность. Важен прежде всего и после всего он сам. Это он – виновник своих произведений, а не его эпоха. Он не продукт ничей, как ничьим продуктом не служит никакая личность. Прежде чем на общий вопрос о свободе воли отвечать в пользу детерминизма, сторонники последнего должны были бы, в применении к писателю, опровергнуть субъективное самочувствие его собственной души. Писатель же, несомненно, чувствует себя автором: даже во власти экстаза, подчиняясь наитию, он остается собою, он – сам. Художник ни за что не признает субъективно – да и не должен признавать объективно, – что его рукою водили определенные и реальные обстоятельства, условия, какие-нибудь неизбежные особенности места и момента. Он не во власти чужого. Напротив, нигде в такой степени не является он самим собою, как в своей творческой работе… В ней-то он как раз и возвращается от общего к личному, к самому себе. Материалы для нее он может порою заимствовать извне, но проходят они через его фантазию, преломляются через его созидательную способность, и в этом именно – все дело. По отношению к своей материи он – зиждущая форма, в аристотелевском смысле этих понятий. В безобразной пустыне мертво и неподвижно, как небытие, как отрицательная и косная величина, лежали бы жизненные материалы, если бы благодатным прикосновением своим не пробуждало их творческое дыхание поэта. Орфей, победитель хаоса, первый двигатель, он осуществляет все мировое развитие. В этом его смысл и величие. Он продолжает дело Бога, воплощает его первоосновную мысль. Творение еще не кончилось, и поэт, священник искусства, облечен великой миссией вести его дальше, развивать предварительные наброски и планы божества, контуры природы. Ее посланник, наместник Бога на земле, так сплетает он свое творчество с творчеством вселенной.
И в этом нет ничего неожиданного, потому что писатель, художник, поэт – не исключение из общего правила, из того закона, по которому всякая личность наделена даром творчества. Художник только усиливает и углубляет то, что свойственно всем людям. Мы все чувствуем себя творцами, зачинателями своих поступков, деятелями своих дел. Детерминисты считают это иллюзией, но характерна ведь и самая возможность иллюзии, и знаменательно, что мы находимся в ее вечном плену. Мы себе приписываем почин. Душа – это действенность. Никогда не отдыхая, perpetuum mobile, даже в часы сна не разрешая себе абсолютного отпуска, она беспрерывно совершает какое-то дело и ни на минуту не остается пассивной. Ничего бы она не переживала, ни одно, самое элементарное ощущение не приходило бы в нее из мира внешнего, если бы она сама не шла ему навстречу всей своей энергией. И вот, эта врожденная и безостановочная действенность ее уже предрасполагает к искусству. Самая психика наша имеет природу эстетическую. Человек – прирожденный художник. И кто не талантлив, кто не оригинален в сновидениях своих? Предоставленная самой себе, личность творит – почему же в самостоятельности мы будем отказывать художнику, этой личности по преимуществу?
Но если так, если прообразом эстетического творчества является нормальная психика вообще, то ясно, что установить законы первого можно лишь постольку, поскольку нам будут известны законы последней. Мы становимся лицом к лицу с психологией. Не в ней ли ключ, которым откроется тайна искусства, загадочная сокровищница слова?
Все надежды, по-видимому, на нее. От психологии должна ожидать себе откровений история литературы. Однако самая психология, не только в теперешнем, признанно-элементарном состоянии, но и в будущих ее возможностях, позволяет ли рассчитывать на установление каких-либо точных, содержательных, в самую глубину идущих закономерностей? Можно ли будет когда-нибудь ввести душу в определенное русло причин и следствий? То, что в этой области известно до сих пор, те психические состояния, которые могут быть уловлены в сеть ассоциаций, то, что в психике может быть учтено и предусмотрено, это все так ничтожно и поверхностно в сравнении с глубокой сферой ее загадок и неожиданностей. Не говоря уже о том, чтобы душу объяснить и подчинить ее необходимым законам, но просто описать ее, рассказать ее, – и этого не может психология. И теперь, как и прежде, и потом, как и теперь, душа остается и останется вовеки непостижимой. Эта неуловимая душа, самое реальное и самое призрачное существо на свете, самое для нас знакомое и самое неизвестное одновременно, вместе явь и галлюцинация, – как вторглась она, великая случайность, на заре мироздания в расчисленный и размеренный круг бытия, в механическую цепь событий, так и сохранила доныне свою анархическую сущность, и в железном царстве окружающей необходимости пребывает она свободной и эту свободу свою утверждает над природой. Законы для души не писаны, а потому не писаны они и для искусства. История литературы услышит от психологии вещие догадки, приобщится к ее воззрениям и метафизической стихии, но никогда не получит от нее той доказательности, которая необходима для науки, потому что этой доказательностью не обладает и не будет обладать сама психология.
Так как сущность художественного произведения определяется индивидуальной психикой его творца, то, поскольку само психическое начало не порождение, а, наоборот, создатель жизни, постольку и художество, в частности литература, представляет собою вовсе не отражение, или, как нередко говорится, зеркало действительности. Пишущий эти строки, отчасти развивая в них мысли, намеченные им в его очерке об Оскаре Уайльде («Этюды о западных писателях»), и вообще примыкая к эстетическим воззрениям автора «Замыслов», должен теперь несколько воспроизвести то, о чем он уже высказался в посвященной ему статье. Именно: рабская работа зеркала человеку вообще не свойственна. Зеркало покорно и пассивно. Безмолвное зрительное эхо вещей, предел послушания, оно только воспринимает и уже этим одним совершенно противоположно нашей действенности. Создание последней, литература, поэтому далеко не отражение. Она творит жизнь, а не отражает ее. Литература упреждает действительность; слово раньше дела. Воплощение догадок и прозрений, вдохновенная Пифия, прорицательница далей, литература не ведомая, а вождь. Словесность всегда впереди; она – вечное будущее. Когда говорят, что она идет по стопам жизни, то это неверно – разве лишь в незначительном и плоском смысле того труизма, что писатель, как мы уже упоминали, может брать свои материалы извне. Но в главном и существенном, в том, без чего литература не была бы литературой, в своей гениальности, в своей капризности, в свободной игре психических сил, она местное и временное как раз и отвергает, с ним не считается, его не воспроизводит. Она сверхвременна и сверхпространственна. Писатель живет всегда и везде. Писатель своим современникам не современник, своим землякам не земляк. Поскольку он – творец, а не обыкновенный житель жизни, он с окружающей средою расходится, и часто именно в этом и состоит его горе от ума, обида его одиночества.
Вот почему вполне естественно рассматривать автора-художника, его сущность, вне исторического пространства и времени. Если такому анализу он не поддается, такого испытания не выдерживает, то, значит, он не писатель, не художник. Только реакция на вечность определяет его истинную силу и величие; только абсолютное служит для него окончательной и верною мерой. Абсолютное же – вне науки; значит, вне науки – литература. И так непонятны все упреки, бросаемые тем критикам, которые подходят к литературному творчеству с мерилом вневременности и, во имя уважения к писателю, стремятся отыскать в последнем его постоянное, непреходящее начало, т. е. его самую основную и необходимую черту. Удивительно со стороны упрекающих это пренебрежение к существу, эта аберрация, заслоняющая главное второстепенным. Для того чтобы не придавать времени и месту решительного значения, вовсе не надо непременно разделять кантовское понимание их, не надо вообще стоять на почве строго философской: чтобы оправдать критика, не ставящего на первый план времени и пространства, эпохи и страны, нужно только вспомнить элементарную истину, что есть разные признаки вещей – необходимые и случайные, что во всех человеческих делах есть моменты общие и частные, всемирные и местные, вечные и временные, – так неужели же принципиально незаконно в самом высоком из человеческих дел, человеческом слове, искать в первую очередь того, что принадлежит не месту, а миру, того, что побеждает время, а не подчиняется ему, того, что не только живет, но и переживает?
Нет, не обстоятельства времени и места, не история определяют писателя: он самоопределяется. Найти причины для его самобытности, вывести ее из условий среды невозможно. Как тщательно мы ни вычисляли бы разнородные влияния, идущие на него, как много бы ни вычитывали мы чужого из его личности, мы все равно в конце концов натолкнемся на него самого, на его самочинность, на его aseitas, – то неразложимое и последнее ядро, в котором – вся суть, которое не может быть выведено ниоткуда. И оттого безнадежны всякие старания объяснить писателя, – личность необъяснима. На вопрос почему? глубже поверхности в этой сфере идти нельзя, и заранее неудовлетворительны все ответы на него. И то было бы уже великое счастье, если бы можно было писателя описать, если бы можно было, отбросив неразрешимое почему, только рассказать, кто он и что он.
Особенно роковую неудачу в попытке объяснения литературы терпит классовая точка зрения, исторический материализм. Самые бесспорные факты обнаруживают, что художественные произведения в сути своей не имеют органически общего ни с социальным положением своих творцов, ни с характером исторического периода. «Война и мир», появившиеся в шестидесятые годы XIX века, выражают ли эпоху шестидесятых годов, ее общественный дух или хотя бы дух тогдашнего дворянства? В годину усердного строительства и реформ, когда русские люди всех социальных классов страстно охвачены настоящим и будущим, – в этот момент кипучей деятельности наиболее русский человек, величайший представитель своей народности, Толстой оборачивается на прошлое, поднимает пыль архивов и душою своею уходит в царство теней. Или его «Анна Каренина»: можно ли сказать, что она соответствует общественности семидесятых годов? На прозаической и болотистой почве мещанства не вырос ли полевой цветок поэзии Кольцова? Есть ли внутренняя необходимая связь между аристократичностью изящной, «тургеневской» музы Чехова и бытом таганрогского лавочника, в семье которого Чехов родился?
Предисловие.
Светлана Ионихина
Дорогой Читатель! Если ты держишь в руках эту книгу, значит, чувство прекрасного царит в твоей душе, значит в твоём сердце живёт любовь. Любовь к родному краю, к природе, к женщине. Любовь, которую воспел в своих стихах Леонид Трапезников.
Сейчас в жизни каждого из нас слишком много негатива, который вызывают средства массовой информации сюжетами о политических распрях, террористических актах, природных катаклизмах, криминальных происшествиях. Мы остро испытываем
дефицит доброты, тепла настоящей любви и взаимопонимания. В суете повседневной жизни мы перестали замечать красоту окружающей нас природы. Живя вдали от родины, мы всё реже вспоминаем отчий дом. Мы почти разучились говорить любимым о своих чувствах тепло и проникновенно, чтобы эти слова проникали в самое сердце и были так же естественны, как само дыхание.
Леонид Трапезников - человек, бесспорно, одарённый. В его стихах каждая строчка будоражит воспоминания юности, вздымает волны ностальгии, которая способна захлестнуть тоской по безвозвратно ушедшему.
Может диким могучим орлом,
Или лебедем, стройным ворваться.
Может серым родным журавлём,
Чтобы дома на веки остаться?
По России видно их не мало
брошенных, забытых и убогих
и пустыми окнами устало
смотришь на заросшие дороги,
Деревушки брошены, забыты
память безысходности и горю
и стоят они, дождём умыты
плачут, по былому, только зори.
Только человек тонкой душевной организации способен видеть красоту в каждой былинке, слышать музыку в каждом шорохе. И, безусловно, только талантливый человек способен так просто и открыто это передать.
Имя нежное носите вы,
Лебединое да журавлиное.
В тихой заводи с ранней весны
Птичек пение слышится дивное.
Стихи о любви - особая страница в творчестве Леонида Трапезникова. И это ещё одно подтверждение силы его таланта. Ведь писать о любви не просто, по крайней мере, по двум причинам: не каждому дано уловить и передать самые тонкие движения души, не каждый осмелится на подобное откровение с читателем, которому так не хватает именно этого - открытости, честности, исповедальности, не темноты, а рассвета души.
И всякий раз, я в том не скрою,
Как вижу я твои черты.
С весной встречаюсь я душою
И помыслы мои чисты.
Стихи Леонида Трапезникова отличаются хорошей техникой исполнения, ритмической музыкальностью, многообразием оттенков и нюансов самого прекрасного человеческого чувства, имя которому - ЛЮБОВЬ.
Я, тобою навек очарован
Бесподобная, милая женщина.
Зачарован тобой, околдован
Моя добрая, милая грешница.
Они несут в себе неповторимую художественную индивидуальность, радуют счастливой способностью автора видеть, чувствовать и удивляться.
Чуть вздрогнули плечи любимой моей
Накрыл я их нежно платочком пуховым.
И нет никого в этой жизни милей,
И радость дарить будем дням этим новым.
Родился Леонид Трапезников 5 мая 1952 года в деревне Картабыз, Октябрьского района, Челябинской области. Он появился на свет в буквальном смысле под ветвями огромной старой берёзы, что росла в чистом поле, где его мать работала на сеялке. Быть может, именно этот факт столь необычного появления на свет, ознаменовал и определил в дальнейшем его творческую сущность и судьбу писателя.
Женился Леонид довольно рано, ещё в студенческие годы на девушке, в которую был влюблён со школьной скамьи и пронёс эту единственную любовь через всю свою жизнь. И по сей день, он сохраняет верность этому светлому чувству. Своей жене Софии Абдулловне Леонид посвятил множество стихов, среди которых стихотворение "Моей любимой"
О прожитых днях нашей жизни с тобой
О том, что ушло, не вернуть наше лето.
Живём, как и прежде, мы жизнью одной,
Но наша с тобой ещё песня не спета...
Предлагаемый сборник стихов "Мой край журавлиный" - это четвёртая книга автора. Ей предшествовали ранее изданные повесть "Искалеченные судьбы", роман "Противостояние" и "Планета Гелиос", первая из серии книг в стиле фэнтэзи под общим названием "Скитания по просторам вселенной". Все произведения, кроме сюжетной линии и духовной наполненности, имеют ещё и некоторый философский оттенок. Их нельзя читать бегло и на ходу. Они требуют неторопливого, вдумчивого и осмысленного прочтения. Я, безусловно, уверена в успехе сборника "Мой журавлиный край", в котором каждое произведение обнажает душу автора.
Его стихи, я, прочитав однажды,
Свой выбор сделала и всем хочу сказать:
Так тонко чувствовать, способен далеко не каждый,
Тем более так искренне те чувства выражать.
Светлана Ионихина
Надежда Доний
Градус тайных чувств
Москва 2016
Под редакцией Леонида Кутырёва-Трапезникова
Все произведения в книге проиллюстрированы
Страница поэтессы на нашем портале –
Предисловие к сборнику стихов
«Градус тайных чувств»
Когда-то я случайно прочитал несколько стихотворений Надежды
Доний и был сражён её поэзией сразу и навсегда. В её стихах я увидел редкую искренность,
тончайшее понимание женской природы и необыкновенное по богатству эмоций человеческое
сердце…
Все мы, пишущие стихи, когда-то впитали в себя поэзию
предшественников – тех поэтов, которые стали нам близкими по своему внутреннему
эмоциональному миру. Отголоски иных поэтических душ при очень внимательном прочтении
всегда можно найти в нашем собственном творчестве.
Читая стихи Надежды Доний, я, скорее всего, не увидел, а
почувствовал, как будто меня кольнула сладкая боль, едва уловимые лермонтовские
и ахматовские интонации – отзвуки моих любимых поэтов, что принесло мне лично
необыкновенную радость…
В целом, архитектоника стихов этой удивительной поэтессы основывается на двух базовых началах: с одной стороны, философское осмысление окружающего мира, отражающееся в форме классического русского стихосложения 1-ой половины 19 века, с другой – запредельная эмоциональная откровенность, соответствующая чувственной сфере авторов из Серебряного века русской поэзии.
Вот наиболее яркие примеры, подтверждающие мои мысли о творчестве Надежды Доний.
Неповторимое слово
Великие страсти безмолвны.
Молчанье – их шепот и рёв.
Их мощь – океанские волны.
Их градус – крушенье основ.
Их выплеск – воды возгоранье,
Плавленье металла в руках.
Они существуют за гранью
Мышления и языка.
Но если вливаются в слово,
Тогда выбирают одно –
Такое, значенье какого
Не может быть искажено.
Ни тьме, ни тумана покрову
Не скрыть под собою его.
Могучее, веское слово.
Как «Всё» или как «Ничего».
Но если то слово истратить,
Его уже не повторить.
Пусть сердце подскажет вам – прятать
Сокровище или дарить…
Эти стихи – невероятный выплеск размышлений о важнейшем
явлении в жизни, но таком неуловимом в наши дни, что мимо него равнодушно
проходят многие...
Вечное в истории литературы обращение к слову становится для автора ориентиром,
близким к космическому смыслу, что весьма характерно для поэзии Золотого века,
где самым ярким искателем тайн во Вселенной человека был М.Ю.Лермонтов.
Из этого же ряда наблюдений можно признать соответствующими
классическому стилю строгий 3-стопный амфибрахий в ритмической структуре стихов
и их рифмическую основу с чередованием мужских и женских рифм. Художественность
стихов строится на сравнениях-определениях и парадоксальных гиперболах с
элементами олицетворения, имеющих философский подтекст.
Ночь
Ветер унес истлевших надежд лоскутья.
Дрогнула твердь. Судьбы надломилась ось.
Ночь драпирует сумрака сизой мутью
Все, что могло бы сбыться. Но – не сбылось...
Чувство беды оскалилось черной бездной,
Жадно сосущей даже намек на свет.
Пропасть подкралась прямо к дверям подъезда:
Дальше – паденье! Точки опоры нет...
Но не страшись угрюмых чертогов ночи!
Грудь распахни дыханию пустоты –
Не задохнешься, не упадешь! И, впрочем,
Лихо не льнет к тому, кто с бедой на "ты".
Ночью в лягушке видится лик царевны.
Полнится тайной чуткий огонь костра.
Тают, как снег, отчаянье, гнев и ревность –
Это родится завтра из недр вчера.
Ночь –- испытанье перед счастливым завтра,
Где ты воздвигнешь солнечный Храм Любви
В новом спектакле жизненного театра.
Только переночуй лишь, переживи...
Здесь мы видим продолжение русской поэтической стилистики
начала 20 века, где на первый план выходит музыка эмоций, которая создаётся за
счет своеобразной метафоричности и особой лексической символики, свойственных
той эпохе. Способствует всему этому отход от силлабо-тонической системы
стихосложения с проникновением в более сложные ритмические структуры: подвижный
дольник, стремящийся к жесткому логаэду, или четкий логаэд, переходящий в
призрачную ткань дольника.
Надежда Доний обладает редким даром – создавать музыку в
стихах.
Известно, что проще и легче работать в силлабо-тонических размерах. Уход от
легкого и обычного ритма – или насилие над собой, или врожденное мастерство. Этому
нельзя научить, это идет от Неба. Такие стихи завораживают своей внутренней
мелодией, усиливая чувственную сторону и умышленно затемняя смысловой ряд. Здесь
тонкие художественные приемы, обильно украшающие строки, не позволяют мгновенно
понять авторскую идею, но заставляют остановиться и задуматься о прекрасном и
над прекрасным, а это придает такой изящной поэзии необыкновенный чувственный шарм!
Стихи Надежды, связанные с взаимоотношениями людей в сфере любви, – это всегда явное или тайное отражение женской природы со всеми её противоречиями и эмоциональными красками, где светлое чувство сплетено с холодным взглядом, а солнечная мелодия истерзана чёрным молчанием…
Розы
В мокром парке аллеи, как порталы в иное.
Поцелуем прощальным – теплый дождь по плащу.
Здесь, под кронами кленов, как в ковчеге у Ноя,
От потопа предчувствий я спасенья ищу.
Вы прислали мне розы... Словно яблоко – Еве,
Обещанием счастья искушая меня.
В лепестках – отраженье Князя Тени на древе
С раскаленной жаровней рокового огня.
Этим образом жажды, обжигающей горло,
Ослепляющей очи, иссушающей кровь,
Той, что в долю секунды все б из памяти стерла,
Вы хотели открыть мне, что такое любовь?
Не трудитесь – я знаю…У нее в балагане
Я однажды сыграла жертвы жалкую роль.
Опьянит-одурманит, отцветет и увянет,
И в наследство оставит затаенную боль.
Ваши алые розы, символ неги и страсти,
Остужу хрусталем я, унимающим дрожь.
Ах, зачем разбивать Вам мое сердце на части?
По следам урагана вновь в него не войдешь.
По покою и воле, словно падшая Ева,
Заблудившись в аллеях, я брожу и грущу.
В обескровленном сердце – ни восторга, ни гнева.
Только капли, как слезы, все бегут по плащу…
Это очень яркие по внутренней энергии и очень искренние
стихи, где чистота чувств таит в себе неповторимый аромат женщины.
Здесь розы – и метафорическая составляющая, и символический
знак.
Вот их истинный смысл для ЛГ:
"Этим
образом жажды, обжигающей горло,
Ослепляющей очи, иссушающей кровь,
Той, что в долю секунды все б из памяти стерла,
Вы хотели открыть мне, что такое любовь?"
Эти многоцветные с множеством оттенков стихи полны нежнейшей слабостью героини
и обнажённой до последней черты искренностью. Музыку поэзии здесь создает
редкий на сегодня ритмический рисунок – 4-стопный анапест с цезурой в середине
строки.
Такая мелодика стихов может получиться только под рукой мастера поэтического слова.
Стихи "Розы" чем-то близки стихам И.Северянина, они мистическим
образом притягивают к себе читателя и завораживают далекими ассоциациями из
прошлого, при этом оставляя надежду на будущее...
Вот, к примеру, Игорь Северянин:
"Это
было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла – в башне замка – Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж".
Однажды я сказал о стихах Надежды Доний, что это удивительно
красиво и загадочно до последней капли крови... Да, это именно так, ибо такая
поэзия приносит самое высокое эстетическое наслаждение!
Мысленный монолог в подземном переходе
Это Вы... Я узнала Вас.
О, каким же Вы были гордым!
Помню – пьеса... Десятый класс.
Вы блестяще сыграли лорда.
А потом была полутьма
старой дачи... Чайковский, кофе,
и сводивший меня с ума
некрестьянский Ваш тонкий профиль.
Счастье глупое, впав в экстаз,
на щеках жаром зорь краснело.
И металась любовь меж нас,
будто хищник, остервенело.
А по осени Вы ушли.
Навсегда, словно канув в Лету,
постигать красоту Земли
по бескрайнему белу свету.
Я ждала Вас... Но – не сбылось.
Лишь осталась на память мета –
шрам на сердце и прядь волос
радикально иного цвета.
Жизнь, однако, свое берет.
От забот тяжелели плечи,
все плотнее сжимался рот
и темней становился вечер.
Как все просто... Теперь Вы здесь –
в пасти грязного перехода.
Тот же профиль, и те же честь
и достоинство. И – порода...
Я могла б Вас одеть – обуть,
дать Вам денег, отмыть от пыли,
вместе вычертить новый путь,
чтоб о прежнем Вы позабыли.
Но в глазах столь знакомый свет...
Свет презрения к мукам ада.
И, как мантра, один ответ
на дрожащих губах: "Не надо!"
Перед нами, по сути, творческий шедевр – золотая унция истинной
поэзии, где при внимательном прочтении можно увидеть отсвет «ахматовской» души
со всеми её женскими взлётами и падениями.
Мужчина для женщины – это тайна, которая лишь приоткрывается
в стихах на мгновение через многообразие красок, оттенков и тончайших нюансов,
которые постичь, кажется, невозможно.
Однако при этом и женщину, в принципе, нельзя понять с её противоречивыми
поступками, фразами и фигурами умолчания…
Такие стихи – это потрясающая откровенность и невероятная сила чувств, которая
сметает на своем пути любые преграды!
Довольно часто в стихах Надежды Доний мы видим, как поэзия украшает
философию, а философия обостряет поэзию. Поэтесса стремится к осмыслению мира
через понимание неизбежности всего сущего и порой выводит читателя на неожиданное,
казалось бы, принятие странного этического принципа, но, возможно, единственно
верного, где очевиден след или флёр эпикурейства: наслаждение – вот решение
своей судьбы! Жизнь – вот главное наслаждение! Скажу откровенно: мне эта позиция
близка и я её очень хорошо понимаю, точнее, разделяю…
В прелестном стихотворении «Звездный
вечер»
такие фантастические нюансы философских размышлений, такие изящные
эмоции, такая живая поэзия, что, читая всё это, получаешь истинное удовольствие.
А какой блестящий финал!
Этих
высших "счастья" и "свободы"
Не постигнешь, сколько ни живи.
Вечная загадка небосвода...
Но нужна ли жизнь, где нет любви?
Может, лучше в этот тихий вечер,
Сумрака вкушая благодать,
У камина о желанной встрече
За бокалом "Кьянти" помечтать...
Однако через эти удивительные стихи проходит одна точная
мысль, связанная
с представлением о предопределенности и неотвратимости событий и поступков в
жизни каждого человека. И это можно понять – только расшифровав ассоциации,
возникающие при чтении этих прекрасных стихов!
Мироздание поэтической эстетики Надежды Доний строится, по
сути, на трех принципиальных для автора явлениях, которые в той или иной мере
отчетливо высвечиваются в ее стихах, часто, сочетаясь друг с другом в
гармоничном союзе.
Это сразу можно увидеть в замечательном стихотворении «Свет»
, где очевидны
три составляющие:
– мысль, как яркая свеча, в руках автора, который ведет нас по тёмным коридорам
прошлого и будущего, а более всего – подсознания. И понятие СВЕТ рассматривается
здесь в разных аспектах, с разных человеческих позиций (бытовых и философских)
и отражается разными художественными средствами. При этом само понятие СВЕТ играет
новыми и необычными красками!
– чувство, растворенное в этих стихах, как в крови растворяется лекарство от одиночества.
И постепенное осознание, что сами эти стихи являются чудотворным бальзамом от
затворничества и отказа от публичности.
– музыка слов, которую трудно создать, не зная, как это
делать... Однако автор знает эту тайну! Секрет – в использовании всего
многообразия поэтики и художественных средств при тончайшей настройке золотых
струн в душе поэта.
После прочтения такой поэзии остаётся послевкусие, а именно: радостное
удивление и даже более – восхищение!
Многие стихи Надежды Доний очень изящны по структуре, но
более всего в них поражает пылающая красота самых потаённых чувств, которыми
делится с нами настоящая женщина... Очень важно отметить, что её строки
рождаются только из реальной жизни. Их поэтичность необыкновенна. Однако
говорить на таком волшебном языке умеют единицы. Стихи Надежды Доний – предмет
искусства, то есть того небесно-красивого, что приносит нам особое эстетическое
наслаждение.
Я очень люблю и ценю желание поэта проникнуть в душевный мир
мужчины и женщины. Быть может, любовь – это самое ценное, что дано нам на
земле. Для меня это очевидно. Стихи Надежды Доний как раз об этом… Когда
поэтесса прикасается к понятиям «он и она», мы слышим философию её личной
жизни.
Особенно это проявляется в её романсовых стихотворениях,
которые насквозь музыкальны и пропитаны воздухом иной эпохи – неповторимым
ароматом конца 19 века в Российской империи.
Стихи «Не целуйте мне
рук»
совершенны по исполнению
и поэтической красоте.
Эти строки, по сути, являются великолепным романсом.
Четыре строфы передают всё, что можно и нужно сказать при таком высоком
напряжении чувств, когда что-то еще сказать – лишнее, а убрать что-то –
разрушить всё.
Здесь отражена вечная тайна женской любви!
Именно женской. Мужчины любят иначе.
Для женщины сладостен сам отказ от любви, ибо в этом отказе нет отречения.
Этот парадокс давно известен, но до сих пор не разгадан.
Отказывая, женщина не отталкивает.
И находит в этом особенную сладость.
– Не целуйте мне рук!
Обожженная Вашим вниманьем,
я уже не способна судить, враг Вы мне или друг.
В этом стихотворении роль мужчины в образе князя порока преподносится нам через
призму женского сердца. А вот через увеличительное стекло реальной жизни, быть
может, этот человек выглядел бы уже совсем иначе.
Но именно этим интересны и притягательны стихи Надежды Доний, ибо её лирическая
героиня показывает нам своего избранника в полумраке – на границе света и тьмы.
Кому-то он князь порока, а кому-то единственный на земле...
Стихи полны удивительно красивых метафорических картин, где скрыты неочевидные символы и тайные знаки для тех, кто посвящен:
– Не
играйте со мной,
словно кот с обезумевшей мышью!
Веер роз цвета крови, и дым сигарет пеленой...
Сладкий ужас объятий над бездной я пламенем вышью
по канве наших душ.
Отпустите меня
из сияния Вашего лета
в мой таинственный сумрак сырого осеннего дня!
Отвечая на зов утонченных желаний поэта,
я была лишь мечтой... Тает свет...
Такие стихи рождаются очень редко – только от настоящих чувств и только у
настоящих женщин. Я не мог пройти мимо такой красоты и написал музыку к ним –
получился изящный и нежный романс в стилистике 19 века.
Послушать его можно здесь – https://www.сайт/work/1225250/
Структура строф многих стихотворений поэтессы авторская – невероятная редкость в наше время. Да и вся поэтика до такой степени индивидуальна, что сразу отличает автора от иных рифмованных текстов, которыми, к сожалению, переполнен литературный интернет.
Лексико-семантическое богатство стихов у Надежды Доний поражает! Просто так
такие насыщенные и энергичные по содержанию стихи не создашь. Поверьте, я точно
знаю, что для этого надо впитать в себя массу книг и знаний... Когда я
читаю стихи Надежды Доний, всегда удивляет необыкновенная легкость и
прозрачнейшая естественность, свойственная её стихотворениям. Это ведь всё
очень сложно – добиться такого мастерского изложения своих мыслей и чувств!
Стихи поэтессы всегда несут в себе новые краски даже в самой
известной или обычной теме. Это связано с её взглядом на вещи и явления, с её
ощущениями жизни, с её миропониманием и её мировоззрением...
Стихи поэтессы особенно волнуют, когда касаются сложных и
многообразных проявлений любви.
Только яркая индивидуальность может высказываться так необычно о, казалось бы,
самом обычном... Но любовь не может быть обычной – это и становится тайной
идеей её стихов.
Многие пишут стихи и многие стараются сказать о любви, но Надежда Доний может сказать так, что это пронзает сердце!
И, надо признать, что ко всем нам, её читателям, друзьям и близким людям, идёт всёпронзающий неугасимый неземной свет от её прекрасной и неповторимой поэзии...
Леонид Кутырёв-Трапезников
литератор, журналист, филолог,
кандидат педагогических наук,
член Международной ассоциации
писателей и публицистов
«Мгновенье – и стихи свободно потекут»… Кто не помнит этих пушкинских строк?! Многие люди, особенно в отроческие и юношеские годы, пытались выразить словами чувства, переполнявшие их, и пытаются до сих пор. Однако процесс рождения стиха не так прост.
Что это – рождение стиха? Таинство? Связь с Богом? Труд, помноженный на терпение? Или всё вместе? Или – «поэзия это круто налившийся свист» и «шёлканье сдавленных льдинок»? Или – поэзия рупор каких-то идей? Или – поэзия просто течение по воле волн моря капризного вдохновения? Или – поэзия каждодневный труд и продукт сугубо мыслительной (даже: рациональной) деятельности? Вряд ли кто-то знает правильный ответ, потому что у каждого ответ – свой. Для каждого Поэзия – что-то особое, и у каждого Муза – со своим неповторимым характером.
Радует, что многие молодые люди в наше время пытаются писать. Увлечение поэзией нетрудно объяснить: чаще всего это стремление обрести положительный идеал, гармоничное мировосприятие; думается, сказывается неприятие обыденной жизни, лишенной романтического, высокого, настоящего.
В то же время ни для кого не секрет, что подавляющее большинство «сочинителей», подобно Онегину, не в состоянии отличить ямба от хорея, не в ладах с русской орфографией и пунктуацией, словарь их беден и примитивен, культура речи на низком уровне. Это лишает поэзию молодых лёгкости, красоты, гармонии, духовности. И это, несомненно, большое упущение. Если правильно организовать ребят – начинающих поэтов – в своеобразный кружок по развитию поэтической одарённости…
…Сколько можно было бы воспитать молодых талантов! И не обязательно новых Пушкиных и Шекспиров! Можно просто давать ребятам начальное поэтическое образование, учить их грамотно выражать свои мысли и чувства, развивать умение дискутировать, формулировать и отстаивать свою точку зрения. Совсем необязательно, чтобы воспитанник такого кружка непременно стал поэтом. Но опыт «всматривания» в Слово, умение увидеть гармонию и музыку речи может оказаться бесценным на любом профессиональном поприще.
Ранее существовал подобный кружок при ЦТДиЮ – «Хрустальное перо». Им руководила поэтесса Е.Юргенсон. Этот кружок дал целую плеяду талантливых поэтов, журналистов и даже юристов. Но сейчас его, к сожалению, нет.
Зато в нашем городе существует литературное объединение «Поэтический Нефтекамск». В его рамках в 2008 году была создана секция, объединившая начинающих поэтов всех возрастов (от 15 до 45 лет). Велась активная работа по развитию поэтической одарённости и формированию литературного вкуса. По результатам работы несколько молодых поэтов «получили путёвку» в местные СМИ.
Впоследствии работа с начинающими поэтами в рамках кружка, изучение и обобщение опыта работы кружка «Хрустальное перо», анализ психолого-педагогической литературы по проблеме детской одаренности позволили нам разработать «Экспериментальное методическое пособие по развитию творческой (поэтической) одарённости у ребёнка». На его базе была организована кружковая работа и индивидуальные занятия с талантливыми школьниками, студентами, а также уже давно пишущими поэтами.
Мы считаем, что особым образом организованная учебно-игровая среда способствует развитию творческой активности детей. Предрасположенность сочинять есть практически у каждого ребёнка. Нужно всего лишь поместить его в такую атмосферу, которая способствовала бы развитию его творческих способностей.
Что такого особенного в нашей методике? А вот в чём особенность: занятия проводятся в игровой форме. Поэзия не должна быть невероятно сложным грузом, всё должно получаться играючи, по вдохновению. Необходимые материалы – 48-листовая тетрадь для записи теоретического материала и выполнения практических заданий и набор разноцветных ручек. В ходе занятий группе учащихся даётся теоретический материал из 2 части прикладного пособия (например, сведения о размере, рифме, форме стиха – сонет, рондо и т.д.), а затем предлагается выполнить практические упражнения по теме из 3 части пособия (например, подобрать рифмы, составить буриме, написать хокку). Это творчески развивает кружковцев и помогает им овладеть основами стихосложения, расширяет их кругозор и общую грамотность.
Выполнение подобных заданий (сочинение сонетов, рондо, хокуу и т.д.) вовсе не «издевательство» над стихотворной традицией, как считают некоторые противники нашей методики. Это просто упражнение, задание, направленное на развитие воспитанников. Мы же не говорим, что использование отрывка, например, из «Мастера и Маргариты» М.Булгакова для закрепления орфограммы «не и ни с разными частями речи» на уроке в 9 классе – издевательство над великим классиком.
Ключевых понятий, которые мы вводим на первом этапе, всего два: РИФМА и РАЗМЕР. Не злоупотребляя литературоведческой терминологией, в игре, с помощью забавных рисунков, несложных рифмовок можно показать, как «работает» рифма, какие способы рифмовки существуют, что такое размер и как стихи «текут» плавно и красиво, когда не сбиваешься с выбранного ритма и размера.
Затем происходит постепенное усложнение занятий, вводятся новые термины и понятия, усваиваются новые формы и способы стихосложения; появляются «зрелые» стихи в противовес «ученическим»; поэтические «этюды» становятся не самоцелью, а средством; усложняется мировосприятие; какие-то элементы стихосложения, способы и приёмы, усвоенные на занятиях, активно используются в поэтической практике.
Чтобы начинающие поэты работали не только на занятиях, но и дома, им даются обширные домашние задания. Домашнее задание придумывается каждый раз сообща в зависимости от потребностей группы. Тема следующего занятия выбирается так же – в зависимости от необходимости с ней ознакомиться или от желания участников группы. В этом наша методика отличается от других методик, где существует жёсткий план занятий, определён объём знаний, который должен усвоить ученик. План занятий по нашей методике формируется по ходу самих занятий. Существует определённый минимум, который должен усвоить и понять начинающий поэт, но не важен порядок получения знаний.
Члены группы получают возможность читать свои стихи, обсуждать их с коллегами, а также с приглашёнными критиками и педагогами. Лучшие работы рекомендуются на общественное прочтение и к публикации в местных СМИ. Но самое главное, что дает работа кружка – это литературное образование и духовно обогащенное общение.
Вы скажите: это всё хорошо. А где результаты? Почему это ваших поэтов нигде не было слышно и видно? Отвечаем: мы долго готовили наш первый выпуск. К нам приходило множество людей, с ними велась работа. Кружок посещало в разное время от 3 до 15 человек. Кто-то отсеивался, не выдерживая ритма работы (поэзия в первую очередь требует самодисциплины, постоянной работы над собой, над своих образованием); кто-то оказывался графоманом и тоже отсеивался; кому-то требовалось только один раз высказаться и они пропадали; кто-то уезжал от нас в другие города на учёбу или работу; кто-то, посчитав, что достиг вершины, уходил в «свободное плаванье»; кто-то получал от нас необходимую поддержку и приходил время от времени… Мы обзавелись новыми друзьями, открыли новые таланты, сочинили вместе немало прекрасных стихов, рассказов и песен.
И вот перед вами – дебютная книжка нашего литературно-поэтического объединения «Saturnia» «Первые шаги». Saturnia – это бабочки-павлиноглазки, одни из самых больших и красивых бабочек в мире. Поэзия и вправду похоже на бабочку: стихотворение существует краткий миг, пока читаешь его или слушаешь – затем оно взмахивает крылами – и остаётся только ощущение стиха, как прикосновение крылышек бабочек к лицу. А ещё в древности поэты называли Сатурнией Италию – родину великих Вергилия, Данте, Петрарки. Так что название нашего ЛПО «Saturnia» весьма символично.
В первую книгу вошло всего 6 авторов. Несомненно, есть множество других талантливых поэтов, чьё творчество не было включено в сборник по разным причинам (главным образом, по причине отсутствия авторов в Нефтекамске или их нежеланием печататься ввиду высокой самокритичности). Чтобы никого не выделять и не обижать, мы решили расположить авторов в алфавитном порядке.