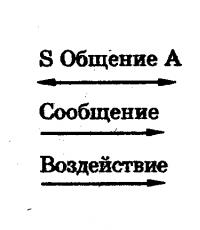Лист. Симфоническая поэма «Мазепа
Симфоническая поэма по Гюго No. 6 (1847-1851)
Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, 3 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, тарелки, большой барабан, струнные.
История создания
Образ Мазепы (ок. 1644-1709) в российском сознании навеки связан с поэмой Пушкина «Полтава» (1828) и написанной по ней опере Чайковского « » (1884). Однако Лист , хотя и побывавший трижды в России и высоко ценивший творчество многих русских композиторов, знал другого Мазепу. Не старый политик, изменивший царю Петру и бежавший вместе со шведским королем Карлом XII после разгрома под Полтавой, а юный влюбленный был известен в Западной Европе, в частности, по «Истории Карла XII» Вольтера.
Вольтер так пишет об этом: «Он был пажем Яна Казимира и при его дворе приобрел некоторый европейский лоск. В молодости у него был роман с женой одного польского шляхтича, и муж его возлюбленной, узнав об этом, велел привязать Мазепу нагишом к дикой лошади и выпустить лошадь на свободу. Она была родом с Украины и убежала туда, притащив с собой Мазепу, полумертвого от усталости и голода. Его приютили местные крестьяне; он долго жил среди них и отличился в нескольких набегах на татар. Благодаря превосходству своего ума и образования, он пользовался большим почетом среди казаков, слава его все более росла, так что царь принужден был объявить его украинским гетманом».
Этот образ привлек многих романтиков: в судьбе Мазепы ярко выявилась излюбленная ими антитеза страдания и триумфа. Одним из первых поэтических воплощений юношеских приключений будущего гетмана стала поэма Байрона «Мазепа» (1818). Но больше всего поразило Листа большое стихотворение Виктора Гюго (1802-1885), вождя французских неистовых романтиков, опубликованное в цикле «Восточные мотивы» (1829). Молодой музыкант жил тогда в Париже, и в становлении его эстетики роль французского романтизма оказалась ведущей. Не мог пройти Лист и мимо серии картин французского художника Ора- са Берне, одна из которых изображает дикую скачку Мазепы, привязанного к крупу коня.
В Париже в 1847 году был издан фортепианный этюд Листа «Мазепа» с подзаголовком «Виктору Гюго»; через пять лет в новой редакции он вошел в знаменитый сборник «Этюды высшего исполнительского мастерства». Здесь программность подчеркивалась заключительной фразой стихотворения Гюго, помещенной под последним тактом:
...Он несется, он летит, он падает,
И подымается царем!
Но музыка этюда первоначально не связывалась с программным прообразом. Ее первое воплощение - в «Этюдах для фортепиано в форме 48 упражнений... юного Листа» (1826); второе, сильно переработанное, - в «Больших этюдах для фортепиано» (1838). И, наконец, уже в Веймаре, в расцвете творческих сил, Лист пишет симфоническую поэму № 6, посвященную, как и остальные 11, Каролине Сайн-Витгенштейн. Первое исполнение «Мазепы» состоялось в Веймаре под управлением автора 16 апреля 1854 года.
В качестве программы в партитуре полностью опубликовано стихотворение Гюго - в оригинале и в немецком переводе ученика Листа композитора П. Корнелиуса. Эпиграфом к стихотворению служит повторяющийся возглас из поэмы Байрона, данный во французском переводе:
«Away! -Away!»
Байрон. «Мазепа».
I
Когда, глотая крик и кровью весь обмазан,
Мазепа по рукам и по ногам был связан
И тело принял конь,
Скакун, что выкормлен морскою был травою,
Клубящий жаркий пар ноздрею огневою,
Копытами - огонь;
Когда ужом вертясь в удавке беспощадной,
Бессильной яростью повеселив изрядно
Спокойных палачей,
Мазепа рухнул вдруг на круп коня могучий,
Покрыт испариной, с губами в пене жгучей,
С кровавым сном очей, -
Раздался крик. И вот, сливаясь в ком единый,
Скакун и человек уже летят равниной
С ветрами наравне.
Безумным топотом взметая вихри праха,
Подобны облаку, где молния с размаха
Блестит в голубизне.
Летят. Уносятся, как бы в дыханье бури,
Рожденной между гор средь ледяной лазури,
Как черный ураган,
Потом виднеются лишь точкою мгновенной,
И даль глотает их, как легкий сгусток пены
Глотает океан.
Летят. Огромна даль. Клоками голубыми
Безмерный горизонт разъемлется пред ними,
Опять смыкаясь вдруг.
Летят, крылатые... И степи, рощи, пашни,
И цепи горные, и города, и башни
Качаются вокруг.
И если, колотясь от бега головою,
Несчастный дернется, - пугливый конь дугою
Взовьет крутой прыжок
И углубляется в простор непроходимый,
Где складками песок, сухой и недвижимый,
Как серый плащ залег.
Все зыблется вокруг, все млеет в красках странных;
Он видит дрожь лесов, движенье туч пространных,
Далеких гор хребет
И замки, что горят лучей вечерним пылом;
Глядит он, - и табун кобыл, покрытых мылом,
За ними мчится вслед.
А в небе, где уже сникает блеск вечерний,
Где море облачков из пурпура и черни
И море туч густых, -
Разбрызгивая их в своем скольженьи низком,
Светило мраморным над ним кружится диском,
Сплошь в жилках золотых.
Блуждает взор его, и кудри сбились в пену;
Свисает голова: песчаную арену
Багрит, стекая, кровь,
И в тело вздутое жестокая веревка
Змеей впивается, что, извиваясь ловко,
Терзает вновь и вновь.
И конь невзнузданный карьер свой длит упорно,
И кровь несчастного летит на иглы терна,
И кожи лоскуты.
Увы! Уже вослед кобылам исступленным,
Что мчатся позади, стай воронов со стоном
Слетают с высоты.
Грачи и филины с безумными глазами,
Орлы, привыкшие кружить над мертвецами,
Незримый днем орлан
И коршун огненный, что лапою своею
В боку у раненых копается и шею
Впускает в недра ран, -
Все их преследуют, летя за скачкой ярой,
Покинув тень дубов и гнезда в башне старой,
И трещины руин.
А он, в крови, в тоске, не слыша стаи жадной,
Дивится, поглядев: кто развернул громадный
И черный балдахин?
Ночь опускается, беззвездно и угрюмо,
И свора хищников летит на крыльях шума
За пленником нагим.
Он видит черный смерч там, в вышине туманной.
Потом теряет их, и только клекот странный
Висит в ночи над ним.
И вот, спустя три дня безумной скачки, цепи
Холмов преодолев, пройдя леса и степи
И холод быстрых вод, -
Конь сразу валится, сопровожденный криком,
Стальной подковою гася на камне диком
Последней искры взлет.
И пленник - распростерт, беспомощный, несчастный,
Обрызган кровью весь, краснее розы красной,
Что расцвела весной,
И черной тучею над ним кружатся птицы,
Мечтая клюв вонзить в кровавые глазницы,
Сожженные слезой...
И все ж казненному, что стонет средь равнины,
Живому мертвецу - народы Украины
Вручат судьбу свою,
Настанет день, и он на бранном пепелище
Орлана и орла накормит сытной пищей -
Погибшими в бою.
Его величие из этой пытки встанет.
Жупаном гетманским он гордый стан обтянет
И двинет булавой;
И ринется вперед, величественно-дикий,
И страстная толпа свои смешает клики
С фанфарой боевой!
II
Так если человек, судьбою озаренный,
Вдруг брошен связанным на круп твой исступленный,
О гений, звездный конь, -
Напрасно бьется он!
В безумии полета
Ты мира здешнего срываешь прочь ворота,
Презрев рога погонь!
Ты пролетаешь с ним вершины гор, пустыни,
Моря и города, и вьешься в тверди синей,
Пронзая небосклон,
И стаи демонов, разбуженных полетом,
Кружат над путником по сумрачным высотам,
Как черный легион.
На крыльях пламенных он мчится легче пуха
Сквозь грань реального, сквозь океаны духа,
Пьет из предвечных рек,
И в грозовой ночи, и в полной звездным светом,
Кидая волосы вслед яростным кометам,
Вьет в небо дивный бег.
Шесть гершелевых лун, кольцо вокруг Сатурна,
И полюс, где горит, переливаясь бурно,
Магнитных зорь дуга, -
Все видит он; твой лет, сверкающий в эфире,
Пред ним иных миров развертывает шири,
Иных идей луга.
Кто, кроме ангелов и демонов, узнает,
Какою мукою полет его пронзает,
Каким полны лучом
Его глаза, когда пред ними молньи блещут,
И сколько черных крыл его во мраке хлещут,
Как ледяным бичом?
Он стонет от тоски. Ты мчишься беспощадно,
Он бледен, изнурен своею скачкой страдной,
Дыбится ужас в нем.
Твой каждый след ему - как страшный сон могилы.
Но вот приходит срок... он рушится без силы
И вновь встает - царем!
Листа вдохновила прежде всего основная, первая часть стихотворения, полная красочных картин, жутких подробностей, ощущения ужаса смерти - в сопоставлении с торжеством несломленного героя, приветствуемого целым народом. Любопытно, что Лист, гостивший в украинском поместье Каролины Витгенштейн и посвятивший ее дочери обработки для фортепиано двух известных украинских песен (1847-1848), охарактеризовал народ, который приветствует своего гетмана, напевом в венгерском стиле вербункош, столь привычном для композитора. Музыка поэмы отличается конкретными деталями изобразительного характера, для чего использован тройной состав оркестра с обилием ударных и таким редким инструментом, как кларнет in D (отличающийся от обычного меньшим размером и обладающий более пронзительным звуком). Символические же параллели второй части стихотворения Гюго - дикая скачка пленника и полет в надзвездных сферах и иных мирах гонимого своим гением художника - хотя и важные для Листа, вряд ли подвластны музыкальному искусству вообще: их трудно обнаружить при непосредственном слушании.
Музыка
Начало поэмы сразу же вводит в центр драматических событий - без подготовки, без размышлений о жизни и смерти. В отличие от большинства симфонических поэм Листа здесь нет медленного вступления. Слышится пронзительный крик (акцентированный аккорд духовых с ударом тарелок), который неизменно ассоциируется со свистом бича, хотя ни в одном из литературных источников об этом не говорится. Начинается дикая скачка, изобретательно переданная пассажами струнных, подчеркнутыми равномерными ударами литавры, потом - большого барабана. Постепенно звучность нарастает и наконец является тема героя. Сурово и гордо возглашают ее тромбоны с тубой и виолончели с контрабасами в октаву. Она проводится шесть раз, будучи единственной вплоть до финального апофеоза (Лист использует здесь свой излюбленный принцип монотематизма). Вначале усиливается героический склад темы (мощное фортиссимо духовых инструментов). Затем слышатся скорбные вздохи и жалобы (среди других деревянных - экспрессивно звучащие английский рожок и бас-кларнет); их сопровождают ужасные видения (струнные играют древком смычка). Но воля героя не сломлена, и тема его снова предстает в первоначальном виде, сопровождаемая фанфарами медных инструментов. Потом наступает катастрофа; скачка обрывается, затихающие удары литавры становятся все более редкими; воцаряется зловещая тишина. Тема героя, прежде горделивая, дробится, словно обессиленная, предсмертные стоны срываются с уст «живого мертвеца». Внезапно картина резко меняется: звучат, нарастая, победные фанфары трех труб, открывая блестящий марш, чередующийся с плясовой песней в народном духе - новыми темами поэмы. Последнее проведение плясовой tutti приобретает героический и ликующий характер, что нередко в апофеозах симфонических поэм Листа. На кульминации еще раз предстает тема Мазепы, теперь торжествующая и победная, - гимн мужеству и воле человека, преодолевшего все препятствия и подчинившего себе судьбу.
А. Кенигсберг
МАЗЕПА
Поема
(Скорочено)
Закінчився бій шведів під Полтавою. Численні полки Карла XII полягли «серед скривавлених шляхів». Самого короля поранено. Втікаючи з поля бою, Карл XII спиняється в лісі для перепочинку. Він лягає під деревом, тамуючи біль від ран. Гетьман Мазепа і собі злазить з коня, але перш ніж лягти відпочивати козацький гетьман:
Обійняв свого коня
За шию, наче той рідня,
І не зважаючи на втому,
Підкинув листя вороному,
Обтер на спині вогкий пил,
Звільнив з оброті і вудил,
І неприховано радів,
Що їв годованець степів,
Хоча й тривожився раніше,
Чи стане він на пасовище,
Адже оцей купратий кінь
Був невловимий, наче тінь,
Неначе блискавка гарячий,
Проте покірливий, терплячий,
І ніс вождя у далечінь,
Як справжній кінь, татарський кінь!
Він знав господареву річ
І лиш почує тихий клич -
Крізь натовп, силу, тисячі,
Було то вдень а чи вночі,
Від заходу і до світання
До нього линув без вагання
І зупинявся на постій,
Неначе олень молодий*.
Тож, доглянувши коня, Мазепа послав на землю горностаєву кирею, перевірив рушницю (чи не відсирів порох, «чи цілий кремінь і курок»), черес і піхви золоті. Потім дістав баклажку і харчі та й почав частувати короля й увесь почет. Карл XII прийняв частування, а тоді почав розпитувати Мазепу, за що той так шанує свого коня. Козацький гетьман відповів, що не добром поминає «ту школу, де навчивсь їзди». Швецький король зацікавився такою відповіддю і, замість того щоб заснути, наполіг на розповіді Мазепи:
А все ж таки уваж і вволь,-
Сказав гетьманові король,
Який до всього мав готовність,-
Я хочу вислухати повість.
Гетьман погодився розказати.про давній випадок із власного життя. Тоді він служив пажем при дворі короля Яна-Казиміра.
Вродливий красень з мене був.
Як сімдесятий рік минув,
Тоді признатися не гріх,
Що на світанку днів моїх
З чоловіків ніхто красою
Не міг би зміритись зо мною.
Я мав і молодість, і міць,
Рум"янець повний серед лиць
І шкіру ніжну, молоду...
При дворі польського короля служив тоді також один ясновельможний пан - надзвичайно багатий, гонористий, родовитий. Він мав прекрасну дружину Терезу, молодшу за нього на тридцять років. Одного разу Мазепа зустрівся з Терезою і закохався у цю жінку неземної краси. Але тривалий час вони могли тільки обмінюватися багатозначними поглядами, адже у вищому світі не прийнято було знайомитися самостійно - отож треба було, щоб хтось представив їх одне одному. Знайомство відбулося під час якоїсь гри, назву якої Мазепа-оповідач вже й не пам"ятав.
Ми зустрічались в таїні.
Той день у схованці мені,
Коли темніла неба синь,
Був нагородою терпінь.
Ходив я днями сам не свій,
Крім того часу, про який
Пригадую. За мить єдину
Я всю віддав би Україну,
До неї всю мою любов,
Щоб тільки пажем бути знов,
Що ніжним серцем володів
І шпагою, не мав скарбів,
Багатства, крім дарів природи -
Здоров"я, молодості, вроди.
Ми зустрічались в таїні.
Я знаю, декому ті дні
Солодкими подвійно є.
«Тот, кто занимал тогда этот пост, был польский шляхтич, по имени Мазепа, родившийся в Подольском палатинате; он был пажом Яна Казимира …был пажом Яна Казимира… - Ян Казимир - польский король (1609–1672). и при его дворе приобрел некоторый европейский лоск. В молодости у него был роман с женой одного польского шляхтича, и муж его возлюбленной, узнав об этом, велел привязать Мазепу нагим к дикой лошади и выпустить ее на свободу. Лошадь была с Украины и убежала туда, притащив с собой Мазепу, полумертвого от усталости и голода. Его приютили местные крестьяне; он долго жил среди них и отличился в нескольких набегах на татар. Благодаря превосходству своего ума и образования он пользовался большим почетом среди казаков, слава его все более и более росла, так что царь принужден был объявить его украинским гетманом» (Voltaire. Hist, de Charles XII, p. 196).
«Король бежал, и гнавшиеся за ним враги убили под ним коня; полковник Гнета, раненый и истекающий кровью, уступил ему своего. Таким образом, завоевателя, который не мог сесть в седло во время битвы, дважды посадили на коня во время бегства» (стр. 216).
«Король с несколькими всадниками отправился другой дорогой. Карета, в которой он сидел, сломалась по пути, и его посадили верхом на лошадь. В довершение, он ночью заблудился в лесу. Потеряв лошадь, упавшую от усталости, обессиленный, невыносимо страдая от ран, лежал он несколько часов под деревом, ежеминутно подвергаясь опасности быть настигнутым преследователями» (стр. 218).Выдержки из сочинения Вольтера «История Карла XII» Байроном приведены по-французски.
Он стих - полтавский страшный бой,
Когда был счастьем кинут Швед;
Вокруг полки лежат грядой:
Им битв и крови больше нет.
Победный лавр и власть войны
(Что лгут, как раб их, человек)
Ушли к Царю, и спасены
Валы Москвы… Но не навек:
До дня, что горше и мрачней, До дня, что горше и мрачней… - Байрон говорит о походе Наполеона в Россию в 1812 г. и его бесславном поражении. К моменту создания поэмы Байрон имел уже широкое и детальное представление об этом историческом событии от русского дипломата Петра Борисовича Козловского (1783–1840), с которым поэт познакомился в 1812–1813 гг. в Лондоне, и в еще большей мере от участника этого похода - французского писателя Стендаля (Анри Бейля, 1783–1842), с которым встречался в Милане в октябре 1816 г.
До года, всех других черней,
Когда позором сменят мощь
Сильнейший враг, славнейший вождь,
И гром крушенья, слав закат,
Смяв одного, - мир молньей поразят!
Игра судьбы! Карл день и ночь,
Изранен, должен мчаться прочь
Сквозь воды рек и ширь полей,
В крови подвластных и в своей:
Весь полк, пробивший путь, полег,
И все ж не прозвучал упрек
Тщеславцу - в час, когда он пал
И властью правду не пугал.
Гиета Карлу уступил
Коня - и русский плен влачил,
И умер. Конь тот, много лиг
Промчавшись бодро, вдруг поник
И пал. В лесной глуши, где мрак
Обвил преследователь-враг
Кольцом огней сторожевых,
Измученный пристал король.
Вот лавр! Вот отдых! - И для них
Народы сносят гнет и боль?
До смертной муки изнурен,
Под дикий дуб ложится он;
На ранах кровь, и в жилах лед;
Сырая тьма над ним плывет;
Озноб, что тело сотрясал,
Сном подкрепиться не давал
И все ж, как должно королям,
Карл все сносил, суров и прям,
И в крайних бедах, свыше сил,
Страданья - воле подчинил,
И покорились те сполна,
Как покорялись племена!
Где полководцы? Мало их
Ушло из боя! Горсть живых
Осталась, рыцарскую честь
Храня по-прежнему, при нем,
И все спешат на землю сесть
Вкруг короля с его конем:
Животных и людей всегда
Друзьями делает беда.
Здесь и Мазепа. Древний дуб,
Как сам он - стар, суров и груб,
Дал кров ему; спокоен, смел,
Князь Украины не хотел
Лечь, хоть измучен был вдвойне,
Не позаботясь о коне:
Казацкий гетман расседлал
Его и гриву расчесал,
И вычистил, и подостлал
Ему листвы, и рад, что тот
Траву стал есть, - а сам сперва
Боялся он, что отпугнет
Коня росистая трава;
Но, как он сам, неприхотлив
Был конь и к ложу, и к еде;
Всегда послушен, хоть игрив,
Он был готов на все, везде;
Вполне «татарин» - быстр, силен,
Космат - Мазепу всюду он
Будь ночь беззвездная вокруг,
Он мчался на знакомый звук;
Он от заката по рассвет
Бежал козленком бы вослед!
Все сделав, плащ Мазепа свой
Постлал; копье о дуб крутой
Опер; проверил - хорошо ль
Дорогу вынесла пистоль,
И есть ли порох под курком,
И держит ли зажим тугой
Кремень, и прочно ли ножны
На поясе закреплены;
Тогда лишь этот муж седой
Достал из сумки за седлом
Свой ужин, скудный и простой;
Он предлагает королю
И всем, кто возле, снедь свою
Достойнее, чем куртизан, Достойнее, чем куртизан… - Куртизан - здесь - придворный.
Кем праздник в честь монарха дан.
И Карл с улыбкою берет
Кусок свой бедный - и дает
Понять, что он душой сильней
И раны, и беды своей.
Сказал он: «Всяк из нас явил
Немало доблести и сил
В боях и в маршах; но умел
Дать меньше слов и больше дел
Лишь ты, Мазепа! Острый взор
С дней Александра до сих пор
Столь ладной пары б не сыскал,
Чем ты и этот Буцефал. …Острый взор // С дней Александра до сих пор // Столь ладной пары б не сыскал. // Чем ты и этот Буцефал. - Здесь Мазепа и его конь сравниваются с Александром Македонским и его конем по кличке Буцефал.
Всех скифов ты затмил, коня
Чрез балки и поля гоня».
«Будь школа проклята моя,
Где обучился ездить я!»
«Но почему же, - Карл сказал,
Раз ты таким искусным стал?»
В ответ Мазепа: «Долог сказ;
Ждет путь еще немалый нас,
Где, что ни шаг, таится враг,
На одного по пять рубак;
Коням и нам не страшен плен,
Лишь перейдем за Борисфен. Борисфен - древнегреческое название реки Днепр.
А вы устали; всем покой
Необходим; как часовой
При вас я буду». - «Нет; изволь
Поведать нам, - сказал король,
Твою историю сполна;
Пожалуй, и уснуть она
Мне помогла бы, а сейчас
Дремотой не сомкнуть мне глаз».
«Коль так, я, государь, готов
Встряхнуть все семьдесят годов,
Что помню. Двадцать лет мне… да…
Так, так… был королем тогда
Ян Казимир. А я при нем
Сызмлада состоял пажом.
Монарх он был ученый, - что ж…
Но с вами, государь, не схож:
Он войн не вел, земель чужих
Не брал, чтоб не отбили их;
До неприличья благодать
Была при нем. И скорбь он знал:
Он муз и женщин обожал,
А те порой несносны так,
Что о войне вздыхал бедняк,
Но гнев стихал, - и новых вдруг
Искал он книг, искал подруг.
Давал он балы без конца,
И вся Варшава у дворца
Сходилась - любоваться там
На пышный сонм князей и дам.
Как польский Соломон воспет
Он был; нашелся все ж поэт
Без пенсии: он под конец
Скропал сатиру, как «не-льстец».
Ну, двор! Пирам - утерян счет;
Любой придворный рифмоплет;
Я сам стишки слагал - пиит!
Дав подпись «Горестный Тирсит ».Тирсит - возможно, по аналогии с Терситом, - жалкий пиит, посягнувший соревноваться с великими поэтами.
Там некий граф был, всех других
Древнее родом и знатней,
Богаче копей соляных
Или серебряных. Своей
Гордился знатностью он так,
Как будто небу был свояк;
Он слыл столь знатен и богат,
Что мог претендовать на трон;
Так долго устремлял он взгляд
На хартии, на блеск палат,
Пока все подвиги семьи,
В полубезумном забытьи,
С ним не была жена согласна:
На тридцать лет его юней,
Она томилась ежечасно
Под гнетом мужа; страсти в ней
Кипели, что ни день, сильней;
Надежды… страх… и вот слезою
Она простилась с чистотою:
Мечта, другая; нежность взгляда
Юнцов варшавских, серенада,
Истомный танец - все, что надо,
Чтоб холоднейшая жена
К супругу сделалась нежна,
Ему даря прекрасный титул,
Что вводит в ангельский капитул;
Но странно: очень редко тот,
Кто заслужил его, хвастнет.
«Я очень был красив тогда;
Теперь за семьдесят года
Шагнули, - мне ль бояться слов?
Немного мужей и юнцов,
Вассалов, рыцарей, - со мной
Могли поспорить красотой.
Был резв я, молод и силен,
Не то, что нынче, - не согбен,
Не изморщинен в смене лет,
Забот и войн, что стерли след
Души моей с лица; меня
Признать бы не смогла родня,
Со мною встреться и сравни
И прошлые, и эти дни.
К тому ж не старость избрала
Своей страницей гладь чела;
Не совладать покуда ей
С умом и с бодростью моей,
Иначе б в этот поздний час
Не мог бы я вести для вас
Под черным небом мой рассказ.
Туда, за куст ореха тот,
Как бы сейчас плывет она,
Настолько в памяти ясна!
И все же нет ни слов, ни сил
Ту описать, кого любил!
Был взор ее азийских глаз
(Кровь турок с польской кровью здесь
Дает порой такую смесь)
Темнее неба в этот час,
Но нежный свет струился в нем,
Как лунный блеск в лесу ночном.
Широкий, темный, влажный, - он
В своих лучах был растворен,
Весь - грусть и пламя, точно взор
У мучениц, что, на костер
Взойдя, на небо так глядят,
Как будто смерть благодарят.
Лоб ясен был, как летний пруд,
Лучом пронизанный до дна,
Когда и волны не плеснут,
И высь небес отражена.
Лицо и рот… Но что болтать?
Ее люблю я, как любил!
Таких, как я, любовный пыл
Не устает всю жизнь терзать,
Сквозь боль и злобу - любим мы!
И призрак прошлого из тьмы
Приходит к нам на склоне лет,
И - за Мазепой бродит вслед.
«При встречах - я глядел, вздыхал;
Она молчала, но звучал
Ответ в безмолвьи; много есть
Тонов и жестов, что прочесть
Умеют взор и слух: душа
Рождает их, любить спеша;
И вот - загадочная связь!
Она уже с другой слилась,
Помимо воли свой призыв
Каленой цепью закрепив,
Что электрической волной
Проводит пламя в дух чужой.
Глядел, вздыхал я, слезы лил
И все же в стороне бродил,
Ждал быть представленным; а там
Встречаться легче стало нам
Без подозрений. Только тут
Решил признаться я, - и что ж?
При встрече вмиг слова замрут,
И сотрясает губы дрожь.
Но час настал. - Одной игрой,
Забавой глупой и пустой,
(Забыл названье!) все кругом
Дни заполняли. Мы вдвоем
Играли тоже: у стола
Нас шутка случая свела.
Исход не волновал меня;
Но быть вблизи, лицом к лицу,
Глядеть и слушать! Как юнцу
Не чуять страстного огня?
Я был при ней как часовой
(Быть нашим зорче б в час ночной!)
И вдруг подметил, что она
Сидит рассеяна, скучна,
Игрой не занята ничуть,
Успехом, сдачей - но стряхнуть
Не может плен ее: сидит
За часом час, хотя бежит
Удача прочь. И вот тогда,
Как яркой молньи борозда,
Сверкнула мысль в мозгу моем,
Что нечто есть в томленьи том,
Сулящее надежду мне.
И - хлынули слова, - вполне
Бессвязные, - но им она
Внимала, хоть и холодна.
С меня - довольно: будут нас
Вновь слушать, выслушавши раз,
Душа не в лед превращена,
И безответность - не отказ!
«Любил я; стал любимым вдруг…
Вам, государь, слыхал я, - тот
Плен сладкий чужд. Я мой отчет
О смене радостей и мук
Прерву: вам пуст казался б он.
Но ведь не всякий прирожден
Страстями править (иль страной
Как вы - и заодно собой).
Я - князь (иль был им); мог послать
Десятки тысяч - умирать
Там, где велю. Но над собой
Я власти не имел такой.
Да, я любил и был любим;
По правде, счастья выше - нет,
И все же, наслаждаясь им,
Доходишь вдруг до мук и бед.
Все встречи - втайне. Час ночной,
Что вел меня в ее покой,
Был полон огненной тоской,
Дней не видал я и ночей,
Лишь час; он в памяти моей
Доныне несравненным сном
Живет: и я отдать бы рад
Всю Украину, чтоб назад
Вернуть его, стать вновь пажом,
Счастливцем, кто владел одним:
Лишь сердцем нежным, да мечом;
Кто был, чужой дарам земным,
Богат здоровьем молодым.
Видались тайно мы. Иной
Находит в том восторг двойной.
Не знаю! Я бы жизнь отдал,
Когда б ее моею звал
При всех, - пред небом и землей!
Я часто горевал о том,
Что встречи наши - лишь тайком.
«За парочкой всегда следят
Глаза чужие… Мог бы ад
Быть полюбезней… Но навряд
Был сатана тут виноват.
Не заскучавший ли ханжа
Благочестивой желчи дал
Исход, от зависти дрожа?..
И раз лазутчиков отряд
Вдруг ночью нас поймал!
Был вне себя от гнева граф;
Я - без меча; но и представ
С мечом, в броне до самых пят,
Толпою все ж бы я был смят.
Уединенный замок; ночь;
Глушь деревенская; помочь
Кто мог бы мне? Дожить до дня
Я и не думал: для меня
И миги сочтены. С мольбой
Воззвал я к деве пресвятой
Да к двум иль трем святым; свой рок
Приняв, сколь ни был он жесток.
Рой слуг меня во внешний двор
Повел. С Терезой разлучен
Был навсегда я с этих пор.
Представьте же, как был взбешен
Наш гордый непреклонный граф!
И он, по совести, был прав:
Боялся он, чтоб наша связь
В потомстве не отозвалась;
Бесился, что запятнан герб,
Что родовая честь ущерб
Несет, что древняя семья
Вся происшествием таким
Оскорблена с главой своим:
Он твердо верил, что пред ним
Склонен весь мир, и первый - я.
Ах, черт! С пажом! Будь то король,
Ну что ж, куда ни шло, - изволь!
Но паж! Сопляк!.. Я гнев понять
Мог - но не в силах описать!..
«- Коня сюда! - Ведут коня.
Нет благородней скакуна!
Татарин_ истый! Лишь два дня,
Как был он взят из табуна.
Он с мыслью спорил быстротой,
Но дик был, точно зверь лесной,
Неукротим: он до тех пор
Не ведал ни узды, ни шпор.
Взъероша гриву, опенен,
Храпел и тщетно рвался он,
Когда его, дитя земли,
Ко мне вплотную подвели.
Ремнем я был к его спине
Прикручен, сложенным вдвойне;
Скакун отпущен вдруг, - и вот,
Неудержимей бурных вод,
Рванулись мы - вперед, вперед!
«Вперед! - Мне захватило грудь.
Не понял я - куда наш путь.
Бледнеть чуть начал небосвод;
Конь, в пене, мчал - вперед, вперед!
Последний человечий звук,
Что до меня донесся вдруг,
Был злобный свист и хохот слуг;
Толпы свирепой гоготня
Домчалась с ветром до меня.
Я взвился в ярости, порвал
Ремень, что шею мне сжимал,
Связуя с гривою коня,
И на локтях кой-как привстал,
И кинул им проклятье. Но
Сквозь гром копыт, заглушено,
К ним, верно, не дошло оно.
Досадно!.. Было б сладко мне
Обиду им вернуть вдвойне!
Но, впрочем, мой настал черед:
Уж нет ни замка, ни ворот,
Ни стен, ни подвесных мостов,
Мостков, бойниц, решеток, рвов;
В полях ни стебелька; жива
Одна лишь сорная трава
Там, где очаг был. Будь вы там,
Ни разу б не приснилось вам,
Что был тут замок. Видеть мне
Ту крепость довелось в огне,
Как падал за зубцом зубец,
И тек расплавленный свинец
Дождем с обуглившихся крыш!
Нет, - месть мою не отвратишь!
Не чаяли они, гоня
Молниеногого коня
Со мной на гибель, что опять,
С десятком тысяч скакунов,
Вернусь я - графу честь воздать,
Раз он пажей катать готов!
Он славно пошутил со мной,
Связав со взмыленным конем;
Ему я шуткою двойной
Недурно отплатил потом:
Всему приходит свой черед,
И тот, кто миг подстережет,
Возьмет свое. Где в мире путь,
Которым можно ускользнуть,
Коль недруг жаждет счеты свесть
И в сердце клад лелеет - месть?
«Вперед, вперед - мой конь и я
На крыльях ветра! След жилья
Исчез. А конь все мчался мой,
Как в небе сполох огневой,
Когда мороз, и ночь ясна,
Сияньем северным полна.
Ни городов, ни сел, - простор
Равнины дикой, темный лес
Каймой, да на краю небес
Порой, на смутном гребне гор,
Стан башни: от татар они
Хранили степь в былые дни,
И все. Пустыня. Год назад
Турецкий тут прошел отряд,
А где спаги оставил след, А где спаги оставил след… - Спагú - вид легкой кавалерии во французских колониальных войсках в XIX–XX вв.; формировались в Сев. Африке. А. Николюкин
Травы в лугах кровавых нет.
Был сер и дымен небосвод;
Унылый ветр стонал порой,
И с ним бы стон сливался мой,
Но мчались мы - вперед, вперед
И глох мой вздох с моей мольбой.
Лил ливнем хладный пот с меня
На гриву буйную коня,
И, в ярости и страхе, тот,
Храпя, все длил безумный лет.
Порой казалось мне, что он
Скок замедляет, изнурен;
Но нет, - нетрудной ношей был
Мой легкий стан для ярых сил;
Я шпорою скорей служил:
Лишь дернусь, боли не стерпев
В руках затекших, - страх и гнев
Коню удваивают пыл;
Я слабо крикнул, - сгоряча
Рванулся он, как от бича:
Дрожа при каждом звуке, он
За трубный рев мой принял стон.
Ремень мне кожу перетер
Меж тем, и кровь текла по нем,
И в горле сдавленном моем
Пылала жажда, как костер.
«Мы в дикий лес влетели; он
Шел без конца, со всех сторон;
Пред строем вековых стволов
Сильнейших бурь бессилен рев,
Что, из Сибири налетев,
Здесь листья лишь дерут с дерев.
Он впроредь рос, а ширь полян
Покрыл кустов зеленый стан,
Чья, пышная весной, листва
С туманом осени - мертва
И падает к ногам дерев,
Суха, безжизненно зардев,
Как кровь на мертвецах, что в ряд
Непогребенные лежат,
И ночь дыханьем ледяным
Так заморозит лица им,
Что даже вороны подчас
Не выклюют зальдевших глаз…
То дикий был подлесок. Вкруг
Там мощный дуб вставал, там бук,
Там грубая сосна; но ствол
Не, льнул к стволу, не то б нашел
Я рок иной; путь уступал
Кустарник нам и не терзал
Мне тела. Жить еще я мог:
Стянул мне раны холодок,
И не давал упасть ремень;
В кустах мы мчались целый день,
Как вихрь; я слышал волчий вой
И волчий бег в глуши лесной,
Звук неуемных их прыжков,
Что бесят гончих и стрелков;
Они летели нам вослед,
И не спугнул их и рассвет;
С зарей их стая к нам близка,
И слышал я сквозь мрак ночной
Вплотную в гущине лесной
Пугливый бег их воровской.
О, если б дали мне мое
Оружье, - меч или копье,
Чтоб мог, коль надо умирать,
Жизнь подороже я продать!
В начале скачки я мечтал,
Чтоб конь мой, изнурен, упал;
Теперь дрожал я, что из сил
Он выбьется. Нет! Он хранил
Дар предков диких: мощный бег
Оленя. Не быстрее снег
Заносит горца у ворот,
Куда он больше не войдет,
Пургою ослеплен, - чем мой
Стремился конь тропой лесной,
Свиреп, неукротим и дик,
Как раздраженный вдруг отказом,
Его не знавший, баловник
Или как женщина, что вмиг
Теряет от обиды разум.
«Лес пройден. Непонятно стыл
Июньский день. Иль в недрах жил
Кровь стыла? Длящаяся боль
Сильней ведь самых твердых воль.
Тогда иным был я: кипуч,
Неукротим, как горный ключ,
Готов явить и страсть, и гнев,
В них разобраться не успев,
Представьте ж ярость, боль, испуг,
Всю смену вынесенных мук,
Озноб мой, голод, горе, стыд,
Раздетость, горький хмель обид!
Весь род мой гневен: кровь - огонь;
Нас лучше не задень, не тронь,
Не то гремучею змеей
Взовьемся мы, готовы в бой;
Что ж странного, коль я на миг
Под гнетом мук моих поник?
Земля исчезла; небосвод
Вдруг вбок поплыл. Свалюсь! Вот-вот!..
Но нет: ремень был крепок тот.
Грудь сжало; мозг пылал, и звон
Стоял в ушах, но смолк и он:
Вертелось небо колесом;
Как пьяный, гнулся лес кругом;
Вдруг молний сноп, кроваво ал,
Мне взор застлал. Кто умирал,
Не мог бы умереть полней.
Истерзан скачкою моей,
Тьмы уловив
Прилив, отлив,
Я силился очнуться, но
Не мог собрать себя в одно!
Так, утопая, льнешь в тоске
К ныряющей в волнах доске,
Вверх-вниз, вверх-вниз, - и по волнам
Скользишь к пустынным берегам.
Мерцала жизнь, как те огни,
Что призрачно снуют в тени,
Когда глушит полночный сон
Мозг, что горячкой воспален.
Но бред прошел, с ним - боль и стон;
Но горько было: понял я,
Что, в миг последний бытия,
Страдалец терпит, - если он
Не обречен на худший страх,
Пока не превратится в прах…
Ну что ж! Нередко я с тех пор
Стоял пред Смертью - взор во взор!
«Вернулась мысль. Где мы? Я зяб,
В висках гудело. Как ни слаб,
Вновь пульс мой жизнь вливал в меня,
Пока вдруг боль как от огня
Меня свела, и к сердцу вновь
Пошла отхлынувшая кровь;
В ушах возник нестройный гул;
Забилось сердце; я взглянул,
Я видел: зренье вновь пришло,
Но мутно все, как сквозь стекло.
Я волн вблизи услышал плеск,
Звезд видел в небе смутный блеск;
Не сплю я: дикий конь плывет
В стремнине столь же диких вод!
Виясь, шумна и широка.
Неслась прекрасная река;
На стрежне мы; изо всех сил
Конь к берегу чужому плыл;
На миг я силы ощутил:
Мой обморок волною смыт,
И бодрость вновь она дарит
Рукам распухшим. Мощью полн,
Конь гордо бьется против волн,
Мы движемся вперед.
Вот наконец и берег тот
Как пристань предстает.
Но рад я не был: позади
Был страх, ждал ужас впереди,
И ночь - повсюду разлита.
Как долго длилась пытка та,
Не рассказать. Едва ль я знал.
Дышал я или не дышал.
«Намокла грива; шерсть блестит,
Конь тяжко дышит, весь дрожит,
И все ж - достаточно ретив,
Чтоб взвиться на обрыв.
Мы наверху. Во тьме ночной
Вновь даль равнины неживой:
Опять простор, простор, простор
Как бездны в снах души больной
Захлестывает взор.
Кой-где вдали белеет блик,
Кой-где угрюмый куст возник
В туманных отблесках луны,
Встающей с правой стороны,
Но хоть бы малый след
Жилья означил лунный свет
В пустыне беспредельной, - нет!
Мелькни костер во тьме ночной
Нам путеводною звездой,
Болотный огонек в тени
Насмешкой надо мной блесни,
Нет! - И ему бы я был рад,
Лги он, обманывай, скользи:
Он бы уверил скорбный взгляд.
Что человек вблизи!
«В путь - вновь; но вяло, кое-как:
Уж нету дикой мощи той,
Весь в мыле, бег сменил на шаг
Конь истомленный мой.
Теперь и малое дитя
Им управляло бы шутя,
Но что мне пользы в том?
Он укрощен, но связан я,
А развяжись, - рука моя
Не справится с конем.
Я все ж попробовал опять
Тугие ремни разорвать,
Увы! не удалось:
Я лишь больней их на себе
В бесплодной затянул борьбе,
И бросить все пришлось.
Казалось, кончен дикий скок,
Но где предел? - еще далек!
Вот мглисто посветлел восток,
Как был рассвет тягуч!
Казалось, что сырая мгла,
Клубясь, темна и тяжела,
Навеки солнце облекла,
Пока багряный луч
Не бросил звезд бессильных ниц,
Затмив лучи их колесниц,
И с трона залил мир кругом
Своим единственным огнем.
«День встал. Клубясь, исчезла мгла,
И все ж - пустыня вкруг была,
Куда лишь глаз хватал. Зачем
Стремиться по просторам тем
Чрез поле, реку, лес? Там нет
Людей, - зверей нет! Хоть бы след
Копыт иль ног по целине,
Знак жизни! В тяжкой тишине
Сам воздух там застыл
Не слышен тонкий рог цикад,
Птиц - или нет, или молчат.
Шатаясь, из последних сил,
Брел конь мой, - долго; тяжко он
Был изнурен и запален;
И все - пустырь со всех сторон.
Вдруг долетело до меня
Как будто ржание коня
Из чащи сосен, - или там
Промчался ветер по ветвям?
Но нет: из леса к нам летит
С тяжелым топотом копыт
Табун огромный, яр и дик;
Хотел я крикнуть - замер крик.
Как эскадрон, летят ряды;
Где ж всадники - держать бразды?
Их тысяча - и без узды!
По ветру - гривы и хвосты;
Раздуты ноздри, вольны рты;
Бокам их шпоры и хлысты
Неведомы, зубам - мундштук,
Ногам - подков железный круг;
Их тысяча - сплошь дикарей;
Вольнее волн среди морей,
Они, гремя, неслись
Навстречу нам, а мы - плелись.
Но моего коня взбодрил
Их вид на миг; из крайних сил
Рванулся он, слегка заржал
В ответ им - и упал.
Дымясь, хрипел он тяжело;
Глаза застыли, как стекло,
И сам застыл он. Первый бег
Был и последним - и навек!
Видал табун,
Как пал скакун,
Видал простертого меня
В петлях кровавого ремня;
Все стали, вздрогнули, все пьют
Ноздрями воздух, прочь бегут,
Вновь подлетают, вновь - назад,
Дыбятся, прыгают, кружат
Вслед патриарху: за собой
Вел конь их, мощный, вороной,
Без нити белой, чья бы вязь
В косматой шерсти завилась;
Ржут, фыркают, храпят - и бег
В свой лес помчали: человек
Им, по инстинкту, страшен был.
А я лежал, простерт, без сил,
На мертвом стынущем коне,
На коченеющей спине,
Что перестала чуять груз;
Но страшный разорвать союз
Не мог я и лежал, простерт,
На мертвом - полумертв.
Не ждал я видеть день второй
Над беззащитной головой.
До сумерек следил я тут
За ходом медленных минут;
Я знал, что хватит жизни - взгляд
Послать последний на закат;
Дух, безнадежностью объят,
Был примирен, был даже рад,
Что наконец оно пришло
То, что казалось худшим, зло.
Смерть неизбежна; благо в ней,
Хоть и уносит в цвете дней;
И все же всем она страшна,
Силками кажется она,
Что можно обойти.
Порой зовут ее, молясь,
Порой - на свой же меч ложась,
Но все же - страшный в ней конец
И для растерзанных сердец:
Ужасней нет пути.
И странно: дети наслаждений,
Что жизнь проводят в вечной смене
Пиров, любви, безумств и лени,
Спокойней ждут ее, чем те,
Кто в муке жил и нищете.
Тем, кто изведал на лету
Всю новизну, всю красоту,
Чего желать, к чему лететь?
И, кроме лишних дней (а их
Всяк видит, идя от своих
Здоровых нервов иль больных),
И нечего жалеть.
Бедняк же бедам ждет конца,
И смерть для скорбного лица,
Для глаз пугливых - враг, не друг,
Пришедший выхватить из рук
Плод райский, - воздаянье мук:
Ведь Завтра - все ему вернет,
Искупит боль, развеет гнет;
Ведь Завтра - будет первым днем,
Что со слезами незнаком,
Что ряд начнет счастливых лет,
Блиставших сквозь туманы бед;
Ведь завтра он не станет клясть
Судьбу, получит мощь и власть
Блистать, владеть, спасать, губить,
И Утру - вдруг на гроб светить?!
«Закат, - а все ремнем тугим
Я связан с трупом ледяным;
Смешаться должен был наш прах,
Я ждал; стояла смерть в глазах,
С надеждою прогнав и страх.
Прощальный взор я в небосклон
Послал; мне застилая свет,
Кружил там ворон; распален,
Моей дождется ль смерти он,
Чтоб свой начать обед?
Он сел, вспорхнул и снова сел,
И вновь поближе подлетел;
Я видел взмахи крыльев; раз
Так близко сел он, что тотчас,
Будь силы, я б ударить мог
Его, - но хрустнул лишь песок
Под слабою рукой, лишь стон
Сорвался с губ, не крик, - и он
Вспорхнул и улетел совсем.
Но что произошло затем,
Не помню. Сон последний мой
Был нежной осиян звездой;
В глаза глядел мне из-за туч
Ее мерцавший, зыбкий луч;
Затем вновь холод, тусклый бред,
Сознанья сумеречный след,
И вновь блаженный смертный сон,
И вновь беззвучный вздох и стон,
Дрожь… миг бесчувствья… в сердце лед.
Б мозгу внезапных молний взлет…
Боль, что свела меня всего…
Вздох, дрожь… и - ничего.
«Очнулся я… Где я? Ужель,
Взор человечий надо мной?
Под ноющей спиной - постель?
Уютный кров над головой?
Я - в комнате? Все наяву?
Ужель земному существу
Тот яркий взор принадлежит,
Столь ласковый? - Ресницы я
Смежил, боясь, что этот вид
Лишь грезы забытья.
Там девушка с густой косой,
Большая, стройная, за мной
Следила, сидя под стеной;
Оцепенение мое
Стряхнув, я встретил взор ее:
Он черен был, блестящ и смел;
Он состраданием горел
Ко мне; как бы молился он.
Я понял: то - не сон!
Я жив, - и тело драть мое
Не будет жадно воронье!
Казачка, увидав, что я
Очнулся вдруг от забытья,
Мне улыбнулась. Я открыл
Глаза, сказать хотел, - нет сил;
Она стремит свой легкий шаг
И, палец приложа к губам,
Не говорить дает мне знак,
Пока оправлюсь так, что сам,
Без муки, волю дам словам;
Потом слегка мне руку жмет,
Подушку половчей кладет
И к двери на носках идет.
Чуть приоткрыла, шепчет в щель;
Не слышал. Музыка была
В самих шагах ее; звала
Она кого-то, - нет их: спят.
Она сама выходит, взгляд
Мне кинув, знак подав, чтоб я
Не опасался, - что семья
Вся здесь; что все на зов придут;
Что только несколько минут
Ее не будет тут.
Ушла, - и хоть на краткий срок
Я все ж остался - одинок.
«С отцом и с матерью тотчас
Она вошла… К чему рассказ
О прочем, - с той поры, что кров
Я отыскал у казаков?
Они без чувств меня нашли,
В ближайший дом перенесли,
Вернули к жизни, - и кого?
Кто стал владыкой их земли!
Так злой безумец, торжество
Справлявший злобно надо мной,
Когда один, в крови, нагой,
Я в степь был выгнан, - мне провел
Путь чрез пустыню на престол!
Как смертному узнать свой рок?
Будь сердцем тверд, душой высок!
Быть может, завтра на лугу,
Там, на турецком берегу,
За Борисфеном, мы дадим
Коням пастись… Вовек с таким
Восторгом рек я не встречал,
Как встречу завтра, если б дал
Нам рок - дойти!.. Спокойных снов,
На ложе из листов
Под сенью дуба гетман лег
Во весь свой рост; удобно мог
Там он уснуть: привычен он
Спать всюду, где застигнет сон…
Что ж Карл спасибо за рассказ
Не скажет? - Гетман не смущен:
Карл спит - по крайней мере час.
Байрон (Джордж Гордон Ноэл)
Джордж Гордон Байрон
Перевод Г. Шенгели
"Тот, кто занимал тогда этот пост, был польский шляхтич, по имени Мазепа, родившийся в Подольском палатинате; он был пажом Яна Казимира и при его дворе приобрел некоторый европейский лоск. В молодости у него был роман с женой одного польского шляхтича, и муж его возлюбленной, узнав об этом, велел привязать Мазепу нагим к дикой лошади и выпустить ее на свободу. Лошадь была с Украины и убежала туда, притащив с собой Мазепу, полумертвого от усталости и голода. Его приютили местные крестьяне; он долго жил среди них и отличился в нескольких набегах на татар. Благодаря превосходству своего ума и образования он пользовался большим почетом среди казаков, слава его все более и более росла, так что царь принужден был объявить его украинским гетманом" (Voltaire. Hist, de Charles XII, p. 196).
"Король бежал, и гнавшиеся за ним враги убили под ним коня; полковник Гнета, раненый и истекающий кровью, уступил ему своего. Таким образом, завоевателя, который не мог сесть в седло во время битвы, дважды посадили на коня во время бегства" (стр. 216).
"Король с несколькими всадниками отправился другой дорогой. Карета, в которой он сидел, сломалась по пути, и его посадили верхом на лошадь. В довершение, он ночью заблудился в лесу. Потеряв лошадь, упавшую от усталости, обессиленный, невыносимо страдая от ран, лежал он несколько часов под деревом, ежеминутно подвергаясь опасности быть настигнутым преследователями" (стр. 218). {Выдержки из сочинения Вольтера "История Карла XII" Байроном приведены по-французски.}
Он стих - полтавский страшный бой,
Когда был счастьем кинут Швед;
Вокруг полки лежат грядой:
Им битв и крови больше нет.
Победный лавр и власть войны
(Что лгут, как раб их, человек)
Ушли к Царю, и спасены
Валы Москвы... Но не навек:
До дня, что горше и мрачней,
До года, всех других черней,
Когда позором сменят мощь
Сильнейший враг, славнейший вождь,
И гром крушенья, слав закат,
Смяв одного, - мир молньей поразят!
Игра судьбы! Карл день и ночь,
Изранен, должен мчаться прочь
Сквозь воды рек и ширь полей,
В крови подвластных и в своей:
Весь полк, пробивший путь, полег,
И все ж не прозвучал упрек
Тщеславцу - в час, когда он пал
И властью правду не пугал.
Гиета Карлу уступил
Коня - и русский плен влачил,
И умер. Конь тот, много лиг
Промчавшись бодро, вдруг поник
И пал. В лесной глуши, где мрак
Обвил преследователь-враг
Кольцом огней сторожевых,
Измученный пристал король.
Вот лавр! Вот отдых! - И для них
Народы сносят гнет и боль?
До смертной муки изнурен,
Под дикий дуб ложится он;
На ранах кровь, и в жилах лед;
Сырая тьма над ним плывет;
Озноб, что тело сотрясал,
Сном подкрепиться не давал
И все ж, как должно королям,
Карл все сносил, суров и прям,
И в крайних бедах, свыше сил,
Страданья - воле подчинил,
И покорились те сполна,
Как покорялись племена!
Где полководцы? Мало их
Ушло из боя! Горсть живых
Осталась, рыцарскую честь
Храня по-прежнему, при нем,
И все спешат на землю сесть
Вкруг короля с его конем:
Животных и людей всегда
Друзьями делает беда.
Здесь и Мазепа. Древний дуб,
Как сам он - стар, суров и груб,
Дал кров ему; спокоен, смел,
Князь Украины не хотел
Лечь, хоть измучен был вдвойне,
Не позаботясь о коне:
Казацкий гетман расседлал
Его и гриву расчесал,
И вычистил, и подостлал
Ему листвы, и рад, что тот
Траву стал есть, - а сам сперва
Боялся он, что отпугнет
Коня росистая трава;
Но, как он сам, неприхотлив
Был конь и к ложу, и к еде;
Всегда послушен, хоть игрив,
Он был готов на все, везде;
Вполне "татарин" - быстр, силен,
Космат - Мазепу всюду он
Будь ночь беззвездная вокруг,
Он мчался на знакомый звук;
Он от заката по рассвет
Бежал козленком бы вослед!
Все сделав, плащ Мазепа свой
Постлал; копье о дуб крутой
Опер; проверил - хорошо ль
Дорогу вынесла пистоль,
И есть ли порох под курком,
И держит ли зажим тугой
Кремень, и прочно ли ножны
На поясе закреплены;
Тогда лишь этот муж седой
Достал из сумки за седлом
Свой ужин, скудный и простой;
Он предлагает королю
И всем, кто возле, снедь свою
Достойнее, чем куртизан,
Кем праздник в честь монарха дан.
И Карл с улыбкою берет
Кусок свой бедный - и дает
Понять, что он душой сильней
И раны, и беды своей.
Сказал он: "Всяк из нас явил
Немало доблести и сил
В боях и в маршах; но умел
Дать меньше слов и больше дел
Лишь ты, Мазепа! Острый взор
С дней Александра до сих пор
Столь ладной пары б не сыскал,
Чем ты и этот Буцефал.
Всех скифов ты затмил, коня
Чрез балки и поля гоня".
"Будь школа проклята моя,
Где обучился ездить я!"
"Но почему же, - Карл сказал,
Раз ты таким искусным стал?"
В ответ Мазепа: "Долог сказ;
Ждет путь еще немалый нас,
Где, что ни шаг, таится враг,
На одного по пять рубак;
Коням и нам не страшен плен,
Лишь перейдем за Борисфен.
А вы устали; всем покой
Необходим; как часовой
При вас я буду". - "Нет; изволь
Поведать нам, - сказал король,
Твою историю сполна;
Пожалуй, и уснуть она
Мне помогла бы, а сейчас
Дремотой не сомкнуть мне глаз".
"Коль так, я, государь, готов
Встряхнуть все семьдесят годов,
Что помню. Двадцать лет мне... да...
Так, так... был королем тогда
Ян Казимир. А я при нем
Сызмлада состоял пажом.
Монарх он был ученый, - что ж...
Но с вами, государь, не схож:
Он войн не вел, земель чужих
Не брал, чтоб не отбили их;
До неприличья благодать
Была при нем. И скорбь он знал:
Он муз и женщин обожал,
А те порой несносны так,
Что о войне вздыхал бедняк,
Но гнев стихал, - и новых вдруг
Искал он книг, искал подруг.
Давал он балы без конца,
И вся Варшава у дворца
Сходилась - любоваться там
Полтавская битва окончена, армия шведского короля Карла XII разгромлена русскими войсками. «Валы Москвы» спасены «до года, всех других черней», когда к русской столице подойдёт войско Наполеона.
Израненный Карл мчится прочь «сквозь воды рек и ширь полей». Полк, пробивший ему путь, весь погиб. Приближённый, уступивший королю коня, попал в русский плен и умер. Вскоре, посреди глухого леса, конь погибает. Изнурённый Карл устраивается под могучим дубом, он не в силах уснуть из-за сотрясающего тело озноба.
И всё ж, как должно королям,
Карл всё сносил, суров и прям,
И в крайних бедах, свыше сил,
Страданья - воле подчинил,
И покорились те сполна,
Как покорялись племена!
Карла окружают немногие оставшиеся в живых полководцы. Здесь и украинский гетман Мазепа, суровый и могучий, как старый дуб; спокойный и смелый. Он измучен, но перед тем, как лечь отдохнуть, заботится о своём верном коне - чистит его и расчёсывает гриву. Затем Мазепа проверяет, в порядке ли его оружие, и лишь после этого делит со спутниками «свой ужин, скудный и простой».
И Карл с улыбкою берёт
Кусок свой бедный - и даёт
Понять, что он душой сильней
И раны, и беды своей.
Карл удивляется умению Мазепы ездить верхом и спрашивает, как он стал столь искусным наездником. Напрасно гетман отговаривается усталостью, король велит ему поведать свою историю, надеясь, что она поможет ему победить усталость и уснуть. Мазепа соглашается и начинает своё рассказ.
Когда будущему гетману было двадцать лет, он служил пажом при дворе польского короля Яна Казимира. Этот учёный монарх, в отличие от Карла, «войн не вёл, земель чужих не брал». «Он муз и женщин обожал» и окружал себя неслыханной роскошью.
Одним из придворных Яна Казимира был очень богатый и старый граф, «всех других древнее родом и знатней». Его юная жена Тереза была моложе графа на тридцать лет и «томилась ежечасно под гнётом мужа».
Страсти в ней
Кипели, что ни день, сильней;
Надежды... страх... и вот слезою
Она простилась с чистотою.
Её прельстила «нежность взгляда юнцов варшавских».
Мазепа, один из самых красивых юношей при дворе, был страстно влюблён в красавицу графиню, но подойти к ней не смел и страдал на расстоянии. Это чувство живо в нём до сих пор.
При встречах - я глядел, вздыхал;
Она молчала, но звучал
Ответ в безмолвьи.
Однажды случай свёл их за столом во время модной тогда карточной игры. С этого дня начался страстный роман Мазепы и Терезы.
Да, я любил и был любим;
По правде, счастья выше - нет,
И все же, наслаждаясь им,
Доходишь вдруг до мук и бед.
Они встречались тайком, по ночам. Сейчас Мазепа готов отдать всю Украину, чтобы вернуть те ночные часы. Тогда же он тяготился этой тайной и мечтал при всех назвать Терезу своей.
Но при королевском дворе долго скрываться невозможно. Какой-то «заскучавший ханжа» сообщил графу об измене. Собрав «лазутчиков отряд», он явился в замок, где в ту ночь встречались любовники.
Был вне себя от гнева граф;
Я - без меча; но и представ
С мечом, в броне до самых пят,
Толпою всё ж бы я был смят.
Больше всего гордый граф боялся, что связь Мазепы с его женой «отзовётся в потомстве» и испортит древнюю кровь рода. Он мог стерпеть связь жены с королём, но не с сопляком-пажом.
Влюблённые были разлучены навсегда. Граф приказал привязать обнажённого Мазепу к дикому, ещё необъезженному коню и отпустить его на все четыре стороны.
«Татарин» истый! Лишь два дня,
Как был он взят из табуна.
Он с мыслью спорил быстротой,
Но дик был, точно зверь лесной.
Мазепа рванулся, но не смог порвать крепкий ремень. Позже он отомстит графу - сравняет этот уединённый замок с землёй.
Где в мире путь,
Которым можно ускользнуть,
Коль недруг жаждет счёты свесть
И в сердце клад лелеет - месть?
Конь понёс Мазепу в пустынную степь, где год назад прошёл отряд татар и не оставил ничего живого. Скакун был неутомим - стоны и движения несчастного пажа лишь подхлёстывали его, заставляли ускорить и без того стремительный бег. Мазепа меж тем погибал от жажды и боли из-за впившихся в тело ремней.
Миновав степь, конь углубился в лес. Мазепа услышал волчий вой.
Они летели нам вослед,
И не спугнул их и рассвет;
Была - не далее сука
С зарёй их стая к нам близка,
И слышал я сквозь мрак ночной
Вплотную в гущине лесной
Пугливый бег их воровской.
Но конь всё ещё «хранил дар предков диких: мощный бег оленя». Настал июньский день, но Мазепа дрожал от озноба. «Длящаяся боль» укротила его кипучую кровь и гневливый нрав. Свет в его глазах померк, и Мазепе показалось, что он умирает.
В себя Мазепа пришёл ночью, когда конь переплывал Дунай, - холодная вода привела его в чувства. Миновав реку, скакун направился в бескрайнюю степь без малейших признаков жилья.
Как долго длилась пытка та,
Не рассказать. Едва ль я знал.
Дышал я или не дышал.
Конь, наконец, устал, перешёл на шаг, и Мазепа вновь попытался порвать связывающие его ремни, но «лишь больней их на себе в бесплодной затянул борьбе». Днём им встретился дикий табун. Конь рванулся, стремясь присоединиться к нему, и пал.
До сумерек лежал Мазепа, привязанный к мёртвому коню.
Я знал, что хватит жизни - взгляд
Послать последний на закат;
Дух, безнадёжностью объят,
Был примирён, был даже рад,
Что наконец оно пришло
То, что казалось худшим, зло.
Когда солнце зашло, Мазепа потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что лежит в чистой постели, а покой его сторожит красивая девушка. Оказалось, что семья украинских казаков нашла его и принесла в свой дом. Позже Мазепа стал гетманом этого народа.
Так злой безумец, торжество
Справлявший злобно надо мной,
Когда один, в крови, нагой,
Я в степь был выгнан, - мне провёл
Путь чрез пустыню на престол!
Выразив надежду, что завтра они будут пасти коней «на турецком берегу», Мазепа ложится «под сенью дуба», ожидая, что король поблагодарит его за рассказ. Но Карл вот уже час, как спит.