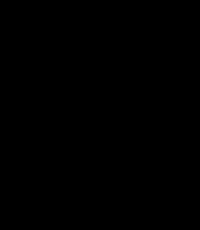Борис Носик Был целый мир – и нет его Русская летопись Лазурного Берега.
Борис Носик
Был целый мир – и нет его
Русская летопись Лазурного Берега
Издательство «Текст» благодарит семью и друзей автора за помощь в подготовке издания этой книги
Все чаще эти объявленья:
Однополчане и семья
Вновь выражают сожаленья…
«Сегодня ты, а завтра я!»
Мы вымираем по порядку -
Кто поутру, кто вечерком
И на кладбищенскую грядку
Ложимся, ровненько, рядком.
Невероятно до смешного:
Был целый мир – и нет его.
Вдруг – ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну, абсолютно ничего!
Георгий Иванов, 1941
Туррет-Леван. Приморские Альпы. Франция
Информация от издательства
Художественное электронное издание
Носик Б.
Был целый мир – и нет его… Русская летопись Лазурного Берега / Борис Носик. – М.: Текст, 2016.
ISBN 978-5-7516-1441-6
Печальная строка из стихотворения Георгия Иванова, ставшая заголовком этой книги, очень точно отражает ее дух и смысл: лучшие сыны и дочери России упокоились вдали от родины – и, как правило, не по своей воле. О тех, кто похоронен на многочисленных русских кладбищах юга Франции, – последняя книга Бориса Михайловича Носика (1931–2015), тонкого ироничного прозаика, летописца русской эмиграции во Франции, автора множества биографий, включая жизнеописания Ахматовой, Модильяни, Набокова, Бенуа, Жуковского, Швейцера. Внимательный читатель в очередной раз испытает гордость и горечь: столько людей, одаренных великими талантами, высокой нравственностью и силой духа, родила Россия – и всех этих людей она потеряла в результате большевистской революции и Гражданской войны начала XX века.
В книге использованы фотографии Т. Носик, Д. Попова, Е. Ушаковой, П. Шидывара
Фотографии на обложке Д. Попова: Руссийон-сюр-Тинэ, Мимозный Борм
Иллюстрация на фронтисписе Д. Попова
© Борис Носик, наследники, 2016
© «Текст», 2016
Антон Носик. Последняя книга отца
Книга, которую вы держите в руках, – последний труд моего отца, писателя Бориса Носика, скончавшегося в Ницце в феврале 2015 года. Книга посвящена теме, глубоким исследованием которой отец занимался больше 30 лет: судьбам россиян, в разные годы XIX и XX веков перебравшихся во Францию и здесь окончивших свои дни.
Борис Михайлович Носик – к тому времени известный в СССР писатель, сценарист, драматург, журналист, переводчик Ивлина Во, биограф Альберта Швейцера – переехал из Москвы в Париж в начале 1980-х годов. В стенах Тургеневской библиотеки он столкнулся с представителями первой русской эмиграции, людьми, сами имена которых в ту пору находились в СССР под запретом. Были среди них потомки знаменитых аристократических родов, писатели, художники, ученые, музыканты, политики предреволюционной эпохи, офицеры белой армии… Он завел с ними дружбу, записывал их воспоминания, получил доступ к семейным архивам и неизданным мемуарам – и вскоре сделался преданным хронистом истории «русской Франции», судьбам которой он посвятил десятки книг, рассказов, репортажей и телевизионных передач. После отмены цензуры в СССР тема перестала быть запретной, и книги Бориса Носика о жизни русских во Франции XX века нашли читателей и издателей в России.
Не будучи историком по образованию и призванию, но всю жизнь проведя в путешествиях, для составления своих исторических хроник Борис Носик часто обращался к жанру путеводителя, привязывая сюжеты к местности, в которой они разворачивались. Не стала исключением и эта его последняя книга. Она рассказывает о кладбищах Южного берега Франции, знаменитого Côte d’Azur, о жизни и смерти людей, здесь похороненных, и при этом ее можно использовать в целях вполне практических, путешествуя вдоль Средиземного моря, от Граса до Ментоны, по департаментам Вар и Приморские Альпы, находя здесь места, значимые для российской истории, но прежде ни в каком путеводителе не упомянутые… А можно читать эту книгу и безо всякой туристической нужды – как неожиданно подробный рассказ о славных, но, увы, малоизвестных страницах нашей истории.
Сам Борис Носик похоронен в Ницце, на русском кладбище Кокад, по соседству со многими героями своей последней книги – такими, как соавтор Козьмы Пруткова, поэт и чиновник Владимир Жемчужников, поэт и критик Георгий Адамович, белый генерал Николай Юденич, светлейшая княгиня Екатерина Долгорукова (морганатическая супруга Александра II), царский министр иностранных дел Сергей Сазонов (убедивший Николая II в необходимости участия в Первой мировой), композитор Леонид Сабанеев и Генриетта Гиршман, портрет которой кисти Серова поныне украшает стены Третьяковки. Но жизнь автора и его персонажей продолжается в рассказе, который вам предстоит сейчас прочитать.
Антон Носик
K приютам волшебного берега
На Лазурном (и вполне лучезарном) Берегу Франции живало в последние полтора столетия немало славных наших соотечественников. Пусть даже и не так много их было, как прочих европейцев, азиатов, африканцев или американцев, но все же регулярно приезжали сюда, на теплый берег и наши намерзшиеся за зиму компатриоты: отогревались, общались друг с другом, а потом, слегка наскучив и берегом и недостатком общения (то ли дело Петербург, Москва, Лондон или Париж!), собирались в обратную дорогу. Ан не всем выпала судьба с чудного этого берега вернуться: многие тут и остались… Так вот наша новая книга для многих из них станет как бы возвращением на родину, хотя бы и виртуальным, хотя бы и запоздалым…
Приезжали они сюда, как мы знаем, по причинам разной степени серьезности, так что не всегда ехали в бодром настроении. Однако добравшись, выйдя из экипажа или вагона поезда (а то уж и вовсе шагнув на трап самолета в аэропорту), невольно улыбались они приветливому солнцу, цветам, шелесту пальм и блеску Средиземного моря, щекочущему чесночному запаху провансальской кухни.
Что же так неудержимо влекло их сюда, наших незабвенных? Одни горячо надеялись тут исцелиться от проклятия тех времен, чахотки, и иных хворей (таким и было большинство приезжих); другие хотели всего-навсего отдохнуть от столичной суеты, наскучившего труда, скучной серости неба, а то и просто от полного безделия; третьи бежали от жизненных неудач на родном севере, от гонений, клеветы, навета врагов и всякой кривды (за морем-то, известное дело, телушка полушка).
Позднее, после 1917 года, горестной толпой бежали они от насильников, обманом и силой сумевших взять власть в их стране, на долгие десятилетия отгородив ее от всего мира, да так, что и соединиться с оставшимися в неволе родственниками или самим вернуться в родные места стало для изгнанников невозможным. Долго надеялись беженцы на перемены, на свое возвращение, на встречу с близкими, ждали часа. И год ждали, и три, и восемь, и десять, и двадцать… А потом и надежду потеряли. Угасая на этом берегу, в городе Йере, в отчаянье написал тогда русский поэт:
Четверть века уже за границей.
И надеяться стало смешным.
Лучезарное небо над Ниццей
Навсегда стало небом родным…
Под этим небом они и умирали, тут и были захоронены на склонах лазурных гор и в живописных ущельях. Кое-где были устроены в селениях особые русские кладбища. А порой случайно вдруг наткнешься близ здешнего берега на русское имя и даты жизни. Встрепенешься: земляк! И похоже, что имя не совсем незнакомое. Вот еще б вспомнить подробнее, кто она была эта Прасковья? Эта Авдотья? Лидия? Георгий? Этот Ушаков? Сидоров? Фальц-Фейн? Меранвиль?.. Впрочем, даже и не вспомнив точно, можешь все же цветок возложить на камень, такой же теплый и краткодневный цветок, как мы с вами. Положишь, и вроде как на душе станет легче.
Сам я вхожу в число тех людей, кто уже с молодых лет больше любил прогулки по кладбищам, чем по шумным паркам культурного отдыха с их толпой. В зрелости отметил я путем чтения разных книг, что я не один малахольный на свете. Такие даже французские писатели попадаются, убедительно приглашающие своих читателей на прогулку по Пер Лашез или какому ни то иному парижскому некрополю…
А теперь вот я надумал пригласить вас в паломничество к русским могилам на издавна обжитом россиянами французском Лазурном Берегу Средиземного моря. Понятно, что упомянутая выше давность и многолюдность русского проживания на этом берегу вполне незначительны в сравнении с древностью здешнего заселения или его многолюдством. А все же и оно оставило след в толще нашей культуры, и не следовало бы нам его терять, раз уж пришло время собирать, а не разбрасывать камни. Оттого и зову вас в это новое паломничество по Франции, на сей раз снова по Французской Ривьере.
Что касается городов, селений и потаенных уголков Ривьеры, по которым пройдет наше путешествие, то несравненная их южная красота давно известна подлунному миру. Волшебный уголок планеты. Да и общее направление нашего странствия, надеюсь, не покажется вам бесцельно грустным. Надеюсь, даст оно моим попутчикам очищающее чувство исполненного долга, случай еще раз поразмышлять о жизни и смерти, новую остроту восприятия блистающего мира… Не могут не навести их на раздумия о жизни ушедших поколений, которым выпали на долю не только XIX, но и кровавый XX век со всеми его потрясениями. Что же до невольной нашей грусти и сочувствия, то думается мне, что эти переживания и мысли, сопутствующие нашему паломничеству, совсем небесполезны, а могут даже оказаться благотворными.
Обложка книги Бориса Носика «Был целый мир - и нет его... Русская летопись Лазурного Берега» (Издательство «Текст», 2016)
Московское издательство «Текст» готовит к выпуску в апреле последнюю книгу писателя, журналиста, переводчика Бориса Михайловича Носика (1931-2015). Книга-паломничество к местам Лазурного берега, навсегда приютившим изгнанников из далекой России. «Под этим небом они и умирали, тут и были захоронены на склонах лазурных гор и в живописных ущельях», - напишет автор. Вкрадчивый странник-исследователь поведет своих не менее внимательных читателей по страницам вечной памяти покинувших родину в годы гражданской войны и революции.
«Она рассказывает о кладбищах Южного берега Франции, знаменитого Côte d’Azur, о жизни и смерти людей, здесь похороненных, и при этом ее можно использовать в целях вполне практических, путешествуя вдоль Средиземного моря, от Граса до Ментоны, по департаментам Вар и Приморские Альпы, находя здесь места, значимые для российской истории, но прежде ни в каком путеводителе не упомянутые… А можно читать эту книгу и безо всякой туристической нужды - как неожиданно подробный рассказ о славных, но, увы, малоизвестных страницах нашей истории», - делится во введении сын писателя Антон Носик.
С разрешения издательства публикуем фрагмент из книги «Был целый мир - и нет его... Русская летопись Лазурного Берега» .
Спустившись от Борма к «русскому пляжу» Ла Фавьер, надо непременно побывать на кладбище соседнего местечка Лаванду, где был похоронен известный петербургский поэт САША ЧЕРНЫЙ (ГЛИКБЕРГ Александр Михайлович, 1880-1932), нашедший на этом берегу воплощение своей давнишней мечты о земном рае, выраженной в известном стихотворении:
Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты
И брать у людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.
Хотя вершина «русского холма» в Ла Фавьере была не вполне голой, а напротив, вполне цветущей, поэт, юморист и сатирик Саша Черный обрел в этом уголке Ривьеры свой новый рай. Хлеб и вино были здесь смехотворно дешевы, а милая жена Марья Ивановна баловала его иногда и котлетами. Так что, не жалуясь на скудость эмигрантской жизни, поэт воспевал прелесть Прованса, блеск моря, уют крошечного Мимозного Борма и соседней с Фавьером деревушки Лаванду.
В прежних, весьма популярных в России сатирических стихах Саши Черного были насмешки над модными идеями столичной и провинциальной интеллигенции, над ее традиционными усилиями сблизиться с «простым народом» («Квартирант и Фекла на диване»). Ныне все это было позади. Нищая русская интеллигенция была здесь в менее завидном положении, чем былая простонародная Фекла, так что из стихов Саши Черного ушли даже остатки былой насмешки над собратьями, над интеллигентской неловкостью. Да и что было пользы насмехаться над бедными, над побежденными, все потерявшими. Поэт и сам признавался в своей сатирической робости: «Лежачего бей осторожно, особенно если он твой брат-эмигрант».
А куда ему теперь податься, эмигранту? На родине остался «угрюмый и ущемленный советский быт, столь же непонятный для нас, как Китай иностранцам». И поэт с жалостью смотрел на эмигрантских собратьев. Вот они приезжают на берег для короткого бедняцкого отдыха с жалкими бедняцкими пожитками:
В чемоданах купальные тряпки,
И спиртовки, и русский роман.
А вверху жестяная коробка
Тарахтит, как лихой барабан.
А вдоль пляжа бредут русопеты.
Дети тащат под мышкой кульки,
Старичок в допотопном пальтишке
На ходу поправляет носки.
Одной из многих ощутимых утрат эмигрантской жизни для таких бывших петербуржцев, каким еще недавно был поэт, стала невозможность «помогать бедным», как это было некогда принято в России. И вот человек старого воспитания в пору эмигрантской бедности ищет возможности стать меценатом. Саша Черный подкармливает голодных кошек, и при этом иронизирует над собственной потребностью в меценатстве. О, эту его прежнюю слабость хорошо помнили друзья. Писатель Михаил Осоргин вспоминал, что «всегда, когда бывали сборы на безработных, на детей или благотворительные вечера, в числе первых с воззванием выступал А. Черный. <…> И по личной доброте, и по личному пониманию, что такое нужда, и, конечно, ради единственного радостного удовлетворения, - что вот можно, ничего как будто не имея, дать больше, чем дает имеющий…»
В последних своих стихотворениях Саша Черный не уставал воспевать этот подаренный ему напоследок судьбою уголок Прованса, где он умер безвременно совсем еще не старым. В 1932 году вспыхнул пожар нa соседней с его домиком ферме, и поэт побежал за ведрами и лопатами, чтобы тушить огонь. Он перегрелся на солнце, поволновался, и сердце не выдержало…
Молодой русский поэт, гостивший в те дни близ Лаванду, записал удрученно: «Под горой невыносимо-радостно зеленели виноградники. Странно было видеть на фоне этой природной красоты, как четыре человека медленно поднимались от фермы Мутон с гробом. Среди носильщиков «гард шампетр» 1 в кепи с серебряными кантами, многолетний друг фермер…»
1. Сельский полицейский (фр.).

«Взросление - пожизненный урок умения творить посильный пир. А те, кто не построил свой мирок, охотно перестраивают мир», - мудро сыронизировал поэт. В то, что реально перестроить к лучшему и мир, и людей можно путём написания замечательных литературных текстов, - верили миллионы русских интеллигентов на протяжении двух столетий. А неизбежное крушение этой литературной религии стало самой большой болью и главным духовным событием для всей творческой части русской эмиграции 1920-30-х годов.
Фер то ке?
Активное чтение мемуаров и биографий великих русских парижан межвоенного времени рано или поздно вызывает у современного читателя недоумение. Мы видим людей, которые страдали прежде всего от невостребованности - но которые не пытались работать по-западному; которые пытались менять мир созерцанием - и это на Западе, цивилизация которого основана на несозерцательных принципах.
Почему на одного Гайто Газданова, проработавшего 24 года шофёром такси, а перед тем разгружавшего корабли, мывшего паровозы, работавшего учителем, а в старости сотрудничавшего с радио «Свобода», для чего пришлось переехать из Парижа в Мюнхен (и всё это совершенно не убило его музу), - приходится сотня литераторов, которые, по примеру Георгия Иванова, отказывались даже заниматься журналистикой и переводами, чтобы не засорять душу?
Это неумение действовать зафиксировала Тэффи с присущей ей иронией - хоть и на примере офицера, а не литератора: «Рассказывали мне: вышел русский генерал-беженец на плас де ла Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на магазины, на пёструю говорливую толпу, - почесал в переносице и сказал с чувством: „Всё это, конечно, хорошо, господа. Очень даже всё это хорошо. А вот... ке фер? Фер то ке?"»*
* Que faire? (фр.) - Что делать?
Ведь и названный Газданов, хоть и писал по-русски, - был полтавчанином-харьковчанином осетинского происхождения - а кавказцы за пределами Кавказа вгрызаются в жизнь заведомо более цепко. Кстати, замечательный нюанс - великая проза Газданова, оценённая Европой на уровне того же Бунина и Набокова, - осталась непонятой не только русскими собратьями-эмигрантами, но и не уезжавшей отечественной интеллигенцией перестроечных лет, вследствие чего остаётся малоизвестной у нас и до сего дня.
 Сам же
Владимир Набоков - единственный в этой когорте носитель изначально
нерусского подхода к литературе - оттого и не воспринимается нами как
русский эмигрантский писатель: он в чём-то был американцем и явственно
американским писателем ещё тогда, когда писал по-русски и жил в Европе.
Сам же
Владимир Набоков - единственный в этой когорте носитель изначально
нерусского подхода к литературе - оттого и не воспринимается нами как
русский эмигрантский писатель: он в чём-то был американцем и явственно
американским писателем ещё тогда, когда писал по-русски и жил в Европе.
А вот практически вся остальная русская эмиграция
Разумеется, разделение не абсолютно: лишние люди встречались и среди нелитераторов (нефилософов, нехудожников, немузыкантов). А умеющие устраиваться русские иногда попадались и среди творцов. Правда, таковые гораздо чаще оказывались не во Франции, а в цивилизационно близкой Сербии или в «дореволюционно-русских колониях» тогдашнего Китая. А то и сразу в Америке, где возможностей устроиться было больше - и куда рано или поздно переместилось большинство доживших до конца Второй мировой русских эмигрантов первой волны.
К тому же, православная церковная интеллигенция в преобладающей массе своей принадлежала как раз к первой группе эмигрантов, хорошо обустраивающей семейно-бытовую или монашескую жизнь. Это легко доказать: если церковный интеллигент-эмигрант имеет потомков, они почти без исключения стали носителями языка окружающей страны - но это же очень бы огорчило интеллигентов внецерковных.
Секта мироустроителей
Собственно, почему литераторы «ничего не делали» - понятно. Они ощущали себя носителями дара, великого мыслительно-языкового дара - и считали немыслимым разменять этот дар на нечто меньшее, чем великая литература. О том, что высокое бездействие выше суетливого делячества, написана половина русской литературы, включая сказки, и четверть литературы ближневосточной. Именно в русской литературе помимо образов «лишних людей» светит яркий пунктир, начинающийся пушкинской «благословенной ленью» и проходящий через фигуру Обломова до главных героев Достоевского, которые хоть и много двигаются, думают и говорят - но никак иначе в жизни не действуют.
 Самое же
потрясающее, что пока литераторы жили в России, они при такой позиции
умудрялись не только выжить - но и жить с постоянной душевной подкормкой
своего дара. И дело в России было даже не в дворянском «врождённом»
капитале многих писателей ХІХ века - и не в высоких гонорарах Золотого
и Серебряного века русской литературы (в том числе заоблачных
многотысячных доходах, устроенных Горьким в его издательстве «Знание», -
после выхода первой же книги писатели спокойно отправлялись на пару
месяцев в путешествие по Европе, даже не задумываясь в ближайший год
о хлебе насущном).
Самое же
потрясающее, что пока литераторы жили в России, они при такой позиции
умудрялись не только выжить - но и жить с постоянной душевной подкормкой
своего дара. И дело в России было даже не в дворянском «врождённом»
капитале многих писателей ХІХ века - и не в высоких гонорарах Золотого
и Серебряного века русской литературы (в том числе заоблачных
многотысячных доходах, устроенных Горьким в его издательстве «Знание», -
после выхода первой же книги писатели спокойно отправлялись на пару
месяцев в путешествие по Европе, даже не задумываясь в ближайший год
о хлебе насущном).
Заметим, что многие эмигранты до отъезда в Европу успели пожить первые послереволюционные годы на родине, когда уже не имели не то что гонораров, но и отопления. Да и самый их тогдашний кров с пропитанием (даже в петроградском «Доме искусств») были на грани некоей жизненной насмешки и исчезновения. Однако и тогда русские литераторы были в своей родной стихии.
Это была стихия сакрального, священного, тайнодейственного отношения к написанному слову. Стихия религиозного восприятия литературных событий - и самой литературной среды. «Для России литература - точка отсчёта, символ веры, идеологический и нравственный фундамент», - такое кредо не просто содержится в замечательном сборнике литературо-познавательной эссеистики «Родная речь» Вайля и Гениса: их введение в русскую литературу с этих-то слов и начинается.
Итак, вплоть до падения СССР для абсолютного большинства русских людей литература была одной из мощнейших религиозных составляющих. А для самих литераторов литпроцесс был жизнью некоей мощной священнослужащей секты, прямо воздействующей на судьбы мира. Не грех будет сказать, что русские литераторы (и чуть в меньшей степени философы, художники, музыканты) прямо ощущали себя священнослужителями этой литературной - но весь мир своими средствами объемлющей - религии.
Они не были лишними людьми. К примеру, любой европеец или американец, узнав о термине «лишние люди», легко записывает в них не только Печорина, но и его автора, неприкаянного Лермонтова. Но на самом деле патриарх литературы (совсем юный, но несомненный патриарх), написав уже десятую часть своей несомненной классики и увидев её распространение (а в русских реалиях это значит: мощное и массовое мировоззренческое воздействие), уже, грубо говоря, спал спокойно и погибнуть, в общем-то, не боялся. Он совершил главное дело русской интеллигенции - и тем выполнил сверхзадачу, состоящую в изменении мира текстами.
Конечно, круг читателей классики составлял малый процент населения империи. Но коллективное подсознание этого круга незримо влияло на многотонную машину коллективного подсознания остальной массы населения империи вне зависимости от национальностей. А коллективное подсознание интеллигенции управлялось свежими литературными текстами в совершенно необычном для мира буквально ручном режиме.
 Отсвет
этой сверхреальности литературы падал и на авторов иностранных.
Ни в Англии, ни в какой другой стране не было столько байронитов -
переносящих интонации английского поэта в саму собственную жизнь.
Не могло быть нигде и такого Серебряного века с его чудовищным
религиозно-эротическим током, которым искрилась жизнь литераторов, -
хоть и выросло это явление отчасти из поэзии французского символизма.
Отсвет
этой сверхреальности литературы падал и на авторов иностранных.
Ни в Англии, ни в какой другой стране не было столько байронитов -
переносящих интонации английского поэта в саму собственную жизнь.
Не могло быть нигде и такого Серебряного века с его чудовищным
религиозно-эротическим током, которым искрилась жизнь литераторов, -
хоть и выросло это явление отчасти из поэзии французского символизма.
Нигде, наконец, не воспринимался бы император Николай І уже ближайшими поколениями как некий среднезначимый политик эпохи Пушкина, известный в основном тем, что мешал жить и творить последнему. И ни в одной из стран, воевавших в Первой мировой, эта война не могла стать менее значимой в восприятии литераторов, чем питерское литкафе «Бродячая собака», - как это произошло в русских умах.
«Вожатые душ, а не масс»
И вот добрая треть творцов этого Серебряного века (и равняющиеся на них подростки, скоро тоже становящиеся поэтами) оказалась во Франции 1920-30-х. Самое потрясающее, что здесь они пытались продолжать ту же русскую традицию изменения мира литературой. Но если публикации и литконцерты с переполненными залами до поры до времени дают им минимальные средства - то отсутствие изменения мира, изменения коллективного подсознания от их текстов скрыть было нельзя.
Запад не меняется и отнюдь насквозь не бурлит ни от творчества нобелиата Бунина, ни от творчества Набокова, Цветаевой, Ходасевича с Берберовой, Г. Иванова с Одоевцевой, не говоря уже об Адамовиче, Оцупе, Ладинском, Борисе Поплавском и так далее. Ничего не происходит и от организаторских камерных усилий Мережковского и Гиппиус; их кружок «Зелёная лампа» совершенно не достигает «атмосферного» уровня религиозно-философских встреч и цехов поэтов начала ХХ века в России.
Впрочем, первое десятилетие эмиграции литературная интеллигенция мало переживает по этому поводу - ещё сильна массовая вера в скорый «конец большевиков» и возвращение на родину. Но когда к 1930 м обнаружилось, что скорее падёт Европа, чем тогдашний СССР; когда стало понятно, что даже преобладающая масса русских эмигрантов стремится подключиться к коллективному подсознанию Запада, а не собственной интеллигенции; когда оказалось, что восприятие литературы даже у «своих» приобрело общемировой тип - или публично-развлекательный, или литературоведчески-научный, но совершенно не мировоззренческий - должен был произойти жуткий слом.
И он произошёл весьма символично - будучи оформлен в виде единовременного события. В 1932 году русский поэт и публицист Горгулов, писавший под значимым псевдонимом Павел Бред, застрелил добродетельного и патриотичного 75 летнего президента Франции Поля Думера. Только в 2011 году явилось событие, которое встало в один ряд (не по числу жертв, а по символичности) с этой горгуловщиной - акт норвежца Брейвика на острове Утойя - эту параллель незамедлительно отметил Дмитрий Быков. Конечно, у обоих графоманов, и 80 лет назад, и год назад, имелось какое-то обоснование их поступков, занявшее необъятное число страниц - но оно ещё более бессмысленно, чем сами поступки. Важнее для нас другое: подсознательное желание обоих сумасшедших террористов предупредить о чём-то мир столь экстравагантным способом - предпринятым после того, как предупреждения в виде текста не подействовали на мир.
Затем, в том же 1932 году, ещё одна литератор - тоже, как и Горгулов, кубанско-казачьего происхождения - Елизавета Скобцова, живой «носитель Серебряного века», - приняла монашеский постриг с именем Мария (сейчас Mère Marie канонизирована Константинопольским Патриархатом в лике преподобномучениц).
А ещё ранее, в 1926 м, принял постриг молодой, успешный «литературный дворянин» - поэт Дмитрий Шаховской - он в будущем станет виднейшим архиереем американского православия. Эти сигнальные звоночки и должны были продемонстрировать литературной эмиграции невозможность жить на Западе их прежними литературно-мироизменительными мерками, показать необходимость выхода из этого круга. Но звоночков почти никто не услышал.
И Нобелевская премия по литературе, полученная в следующем 1933 году Иваном Буниным (а фактически - всей русской эмиграцией в его лице), должна была стать надгробным камнем этой интеллигентской идее - ведь, собственно, и сама бунинская «Жизнь Арсеньева» была автоэпитафией прежнему коллективному подсознанию. Однако, как часто бывает у нас, вместо тризны по литературной эмиграции произошла «гальванизация трупа», - как это русское явление называет тот же Быков.
«Ласково кружимся в вальсе загробном на эмигрантском балу»
Литераторы взбодрились. А ощущение бессмыслицы всё равно нарастало. В 1935 году из мира уходит талантливый 32 летний поэт Борис Поплавский. В 1939-м умирает от болезни (но явно депрессивного происхождения) тоже нестарый Владислав Ходасевич.
В 1941-м не стало Цветаевой - вопреки распространённому мнению, мне кажется, что её уход обусловлен не пребыванием в СССР в последние пару лет её жизни, а, наоборот, непребыванием в нём же перед тем - её пропитывала отравная депрессия чисто эмигрантского свойства.
Наконец, примечательный своего рода постриг проходит и Антонин Ладинский - с конца 1930-х он становится сверхистовым социалистом, пишет наивно-сервильные стихи о колхозниках, и в конце концов его вышвыривают из Парижа, думается, к его же радости. Дописывать «Анну Ярославну - королеву Франции» ему довелось уже в СССР, недалеко от родины главной героини.
У многих литераторов слишком заметна утрата моральной чувствительности - однако совсем не в духе мистически-эротического Серебряного века. Речь о вещах, не объяснимых физиологическим «затмением», гораздо более продуманных и малодушных.
Например, Одоевцева в воспоминаниях «На берегах Сены» описывает не менее четырёх жутких поступков Георгия Адамовича (проиграл в казино деньги на её же квартиру и, более того, заставил её отыгрываться в Монте-Карло, зная, что это уже бессмысленно; пустил ложный слух, что Одоевцева с мужем во время оккупации устраивали приёмы для немецких офицеров - такой «донос» в конце 1940-х во Франции означал потерю друзей и хорошо если не тюрьму; в голодные годы поиздевался над девушкой, заставив её искать якобы имеющуюся в доме еду, которой на самом деле не было, - и так далее). Но поразительно: мемуаристка не чувствует, что говорит о потрясающих читателя мерзостях, о буквальной вони душевной, о совершенно «нерукопожатном» после любого из таких поступков человеке; для неё важнее, что Адамович - хороший поэт.
Кроме того, в эмигрантских мемуарах мы встречаем необыкновенное число творческих людей, страшно боящихся остаться в одиночестве. Странная массовость невроза показывает его подсознательную природу: из-под литературоцентричной личности выдернули почву, выбросили в безвоздушное пространство, - так это ими ощущалось. Последние стихотворения Георгия Иванова хорошо передают мистический ужас этой богооставленности.
Кощунственно звучит, но уверен, что многие эмигранты-литераторы иногда завидовали погибающим в лагерях и прогибающимся под власть советским собратьям. Когда Сталин звонил Пастернаку и спрашивал о Мандельштаме или когда вместе с Ворошиловым и Берией навещал больного Горького - это ведь было знаком принадлежности к судьбам мира, исполнением тайных мечтаний русского литератора.
Что таило зерно
И только в 1950-е годы, после тектонического сдвига Второй мировой, литераторы-эмигранты смиряются с аннигиляцией своей литературной веры. Примечательно, что франкопишущая фантаст русского происхождения Наталья Хеннеберг (Эннеберг) в первом же романе «La naissance des dieux» («Рождение богов») выводит поэта, учёного и космонавта в число последних оставшихся на земле людей, имеющих возможность творить из тумана новые существа - так вот, у обоих непоэтов получаются нормальные «конструктивные» существа, люди и животные, а у поэта неизменно выходят чудовища... Это был приговор «литературной религии».
Зато осознание этого обессмысливания и краха дало такие шедевры, как предсмертные стихи Георгия Иванова, с которыми по силе отчаяния мало что может сравниться.
И лишь немногие авторы нашли из этого отчаяния выходы - например, об этом свидетельствует замечательная интонационная ткань предсмертного же романа Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха». Этот роман - очень русский или украинский случай (эстафету этот репатриант подхватил у киевлянина Марка Алданова - и передал её тоже киевлянину, но уже не эмигранту - Павлу Загребельному): совершенно исторический текст несёт в себе не только намёки на современность, но и импрессионистический тон, звучащий между слов, улавливаемый на каком-то нижнем этаже восприятия (ведь и «Войну и мир» мы любим больше за междустрочную светлую импрессию, а не за те смыслы, которые надлежит найти в ней при изучении в школе).
И этот тон у Ладинского как-то исподволь показывает медленное обретение вполне религиозного смысла жизни администратором-полководцем сквозь его суетные вроде бы и неприглядные порой дела (и, скорее, вопреки им) - и поразительное необретение такого смысла невероятно милым и солнечным, ярко-душевным, но всё-таки не достигающим духовной глубины гусляром Златом, как раз и олицетворяющим искусство-как-религию.
Наконец, без этого эмигрантского краха литературы-религии не появилось бы «Пробуждение» позднего Газданова - которое сюжетом уже прямо указывает на частичное обретение потерянного смысла жизни неким нелитературным деятельным способом (интригу раскрывать не будем).
Подобные выходы - и сама возможность выход найти - и были плодотворными ростками эмигрантского литературного зерна, которое в своё время отчаянно сопротивлялось соприкосновению с землёй обыденных дел и с землёй западного мира, так жаждало насыщать собою воздух, висеть перед глазами всех - но того не ведало, что если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода (Ин. 12, 24).
Таким образом, эмигранты первыми прошли через смерть идеи изменить мир текстами - просвещенческой идеи ХVIII века, задержавшейся в России в качестве искушения на несколько столетий (да и на Западе возрождавшейся, например, у рок-музыкантов - и, опять же, закончившейся бессмысленным терактом: убийца Джона Леннона отомстил кумиру за отсутствие кардинальных изменений мира, которых он от него и от всего рок-искусства ожидал). Оставшиеся в СССР и их потомки - то есть мы с вами - пережили это уже в 1990-2000-х - именно тогда и поэзия, и проза, и рок-н-ролл, и бардовская песня стали окончательно «мертвы»: не в смысле фактического исчезновения, а в смысле утраты веры в их религиозно-мироизменительную функцию.
Нам было намного легче это пережить. У нас перед глазами уже был опыт русских литераторов-эмигрантов - первыми проведших русскую идею сверхлитературы на тот свет.
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Борис Носик
Был целый мир – и нет его
Русская летопись Лазурного Берега
Издательство «Текст» благодарит семью и друзей автора за помощь в подготовке издания этой книги
Все чаще эти объявленья:
Однополчане и семья
Вновь выражают сожаленья…
«Сегодня ты, а завтра я!»Мы вымираем по порядку -
Кто поутру, кто вечерком
И на кладбищенскую грядку
Ложимся, ровненько, рядком.Невероятно до смешного:
Был целый мир – и нет его.Вдруг – ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну, абсолютно ничего!Георгий Иванов, 1941
* * *
Туррет-Леван. Приморские Альпы. Франция
Информация от издательства
Художественное электронное издание
Носик Б.
Был целый мир – и нет его… Русская летопись Лазурного Берега / Борис Носик. – М.: Текст, 2016.
ISBN 978-5-7516-1441-6
Печальная строка из стихотворения Георгия Иванова, ставшая заголовком этой книги, очень точно отражает ее дух и смысл: лучшие сыны и дочери России упокоились вдали от родины – и, как правило, не по своей воле. О тех, кто похоронен на многочисленных русских кладбищах юга Франции, – последняя книга Бориса Михайловича Носика (1931–2015), тонкого ироничного прозаика, летописца русской эмиграции во Франции, автора множества биографий, включая жизнеописания Ахматовой, Модильяни, Набокова, Бенуа, Жуковского, Швейцера. Внимательный читатель в очередной раз испытает гордость и горечь: столько людей, одаренных великими талантами, высокой нравственностью и силой духа, родила Россия – и всех этих людей она потеряла в результате большевистской революции и Гражданской войны начала XX века.
В книге использованы фотографии Т. Носик, Д. Попова, Е. Ушаковой, П. Шидывара
Фотографии на обложке Д. Попова: Руссийон-сюр-Тинэ, Мимозный Борм
Иллюстрация на фронтисписе Д. Попова
© Борис Носик, наследники, 2016
© «Текст», 2016
Антон Носик. Последняя книга отца
Книга, которую вы держите в руках, – последний труд моего отца, писателя Бориса Носика, скончавшегося в Ницце в феврале 2015 года. Книга посвящена теме, глубоким исследованием которой отец занимался больше 30 лет: судьбам россиян, в разные годы XIX и XX веков перебравшихся во Францию и здесь окончивших свои дни.
Борис Михайлович Носик – к тому времени известный в СССР писатель, сценарист, драматург, журналист, переводчик Ивлина Во, биограф Альберта Швейцера – переехал из Москвы в Париж в начале 1980-х годов. В стенах Тургеневской библиотеки он столкнулся с представителями первой русской эмиграции, людьми, сами имена которых в ту пору находились в СССР под запретом. Были среди них потомки знаменитых аристократических родов, писатели, художники, ученые, музыканты, политики предреволюционной эпохи, офицеры белой армии… Он завел с ними дружбу, записывал их воспоминания, получил доступ к семейным архивам и неизданным мемуарам – и вскоре сделался преданным хронистом истории «русской Франции», судьбам которой он посвятил десятки книг, рассказов, репортажей и телевизионных передач. После отмены цензуры в СССР тема перестала быть запретной, и книги Бориса Носика о жизни русских во Франции XX века нашли читателей и издателей в России.
Не будучи историком по образованию и призванию, но всю жизнь проведя в путешествиях, для составления своих исторических хроник Борис Носик часто обращался к жанру путеводителя, привязывая сюжеты к местности, в которой они разворачивались. Не стала исключением и эта его последняя книга. Она рассказывает о кладбищах Южного берега Франции, знаменитого Côte d’Azur, о жизни и смерти людей, здесь похороненных, и при этом ее можно использовать в целях вполне практических, путешествуя вдоль Средиземного моря, от Граса до Ментоны, по департаментам Вар и Приморские Альпы, находя здесь места, значимые для российской истории, но прежде ни в каком путеводителе не упомянутые… А можно читать эту книгу и безо всякой туристической нужды – как неожиданно подробный рассказ о славных, но, увы, малоизвестных страницах нашей истории.
Сам Борис Носик похоронен в Ницце, на русском кладбище Кокад, по соседству со многими героями своей последней книги – такими, как соавтор Козьмы Пруткова, поэт и чиновник Владимир Жемчужников, поэт и критик Георгий Адамович, белый генерал Николай Юденич, светлейшая княгиня Екатерина Долгорукова (морганатическая супруга Александра II), царский министр иностранных дел Сергей Сазонов (убедивший Николая II в необходимости участия в Первой мировой), композитор Леонид Сабанеев и Генриетта Гиршман, портрет которой кисти Серова поныне украшает стены Третьяковки. Но жизнь автора и его персонажей продолжается в рассказе, который вам предстоит сейчас прочитать.
Антон Носик
K приютам волшебного берега
На Лазурном (и вполне лучезарном) Берегу Франции живало в последние полтора столетия немало славных наших соотечественников. Пусть даже и не так много их было, как прочих европейцев, азиатов, африканцев или американцев, но все же регулярно приезжали сюда, на теплый берег и наши намерзшиеся за зиму компатриоты: отогревались, общались друг с другом, а потом, слегка наскучив и берегом и недостатком общения (то ли дело Петербург, Москва, Лондон или Париж!), собирались в обратную дорогу. Ан не всем выпала судьба с чудного этого берега вернуться: многие тут и остались… Так вот наша новая книга для многих из них станет как бы возвращением на родину, хотя бы и виртуальным, хотя бы и запоздалым…
Приезжали они сюда, как мы знаем, по причинам разной степени серьезности, так что не всегда ехали в бодром настроении. Однако добравшись, выйдя из экипажа или вагона поезда (а то уж и вовсе шагнув на трап самолета в аэропорту), невольно улыбались они приветливому солнцу, цветам, шелесту пальм и блеску Средиземного моря, щекочущему чесночному запаху провансальской кухни.
Что же так неудержимо влекло их сюда, наших незабвенных? Одни горячо надеялись тут исцелиться от проклятия тех времен, чахотки, и иных хворей (таким и было большинство приезжих); другие хотели всего-навсего отдохнуть от столичной суеты, наскучившего труда, скучной серости неба, а то и просто от полного безделия; третьи бежали от жизненных неудач на родном севере, от гонений, клеветы, навета врагов и всякой кривды (за морем-то, известное дело, телушка полушка).
Позднее, после 1917 года, горестной толпой бежали они от насильников, обманом и силой сумевших взять власть в их стране, на долгие десятилетия отгородив ее от всего мира, да так, что и соединиться с оставшимися в неволе родственниками или самим вернуться в родные места стало для изгнанников невозможным. Долго надеялись беженцы на перемены, на свое возвращение, на встречу с близкими, ждали часа. И год ждали, и три, и восемь, и десять, и двадцать… А потом и надежду потеряли. Угасая на этом берегу, в городе Йере, в отчаянье написал тогда русский поэт:
Четверть века уже за границей.
И надеяться стало смешным.
Лучезарное небо над Ниццей
Навсегда стало небом родным…
Под этим небом они и умирали, тут и были захоронены на склонах лазурных гор и в живописных ущельях. Кое-где были устроены в селениях особые русские кладбища. А порой случайно вдруг наткнешься близ здешнего берега на русское имя и даты жизни. Встрепенешься: земляк! И похоже, что имя не совсем незнакомое. Вот еще б вспомнить подробнее, кто она была эта Прасковья? Эта Авдотья? Лидия? Георгий? Этот Ушаков? Сидоров? Фальц-Фейн? Меранвиль?.. Впрочем, даже и не вспомнив точно, можешь все же цветок возложить на камень, такой же теплый и краткодневный цветок, как мы с вами. Положишь, и вроде как на душе станет легче.
Сам я вхожу в число тех людей, кто уже с молодых лет больше любил прогулки по кладбищам, чем по шумным паркам культурного отдыха с их толпой. В зрелости отметил я путем чтения разных книг, что я не один малахольный на свете. Такие даже французские писатели попадаются, убедительно приглашающие своих читателей на прогулку по Пер Лашез или какому ни то иному парижскому некрополю…
А теперь вот я надумал пригласить вас в паломничество к русским могилам на издавна обжитом россиянами французском Лазурном Берегу Средиземного моря. Понятно, что упомянутая выше давность и многолюдность русского проживания на этом берегу вполне незначительны в сравнении с древностью здешнего заселения или его многолюдством. А все же и оно оставило след в толще нашей культуры, и не следовало бы нам его терять, раз уж пришло время собирать, а не разбрасывать камни. Оттого и зову вас в это новое паломничество по Франции, на сей раз снова по Французской Ривьере.
Что касается городов, селений и потаенных уголков Ривьеры, по которым пройдет наше путешествие, то несравненная их южная красота давно известна подлунному миру. Волшебный уголок планеты. Да и общее направление нашего странствия, надеюсь, не покажется вам бесцельно грустным. Надеюсь, даст оно моим попутчикам очищающее чувство исполненного долга, случай еще раз поразмышлять о жизни и смерти, новую остроту восприятия блистающего мира… Не могут не навести их на раздумия о жизни ушедших поколений, которым выпали на долю не только XIX, но и кровавый XX век со всеми его потрясениями. Что же до невольной нашей грусти и сочувствия, то думается мне, что эти переживания и мысли, сопутствующие нашему паломничеству, совсем небесполезны, а могут даже оказаться благотворными.
Один из французских авторов написал однажды о дорожках старых кладбищ как о «перепутье для размышлений, наилучшем уголке для прогулок, в ходе которых можно мысленно плести над чужими могилами узорное кружево собственной жизни».
Вспоминаю, что меня самого по переезде из Москвы во Францию (тридцать с лишним лет тому назад) бесконечно занимала история тех наших соотечественников, что оказались здесь некогда в изгнании. Большинство из них еще до изгнания и бегства успело прожить блистательный век на оставленной родине. Как повели они себя в новых обстоятельствах, когда утратили семьи, состояние, всяческий престиж, родственные и дружеские связи, профессию, родные места и родовые гнезда? Это было для них жестокое испытание. Неудивительно, что иные из этих пылких идеалистов, гордых снобов или утонченных эстетов пережили здесь почти полное падение и стали подонками общества. Удивительным было другое: то, что столь многие устояли в этих условиях и сохранили внутреннее достоинство. Что они сохранили энергию, жажду деятельности, общественный темперамент, самоотверженность, доброту, любовь к людям и к оставленной, недоступной родине, которая с каждым годом становилась там вдали чем-то иным, все менее знакомым и понятным.
Эмигрантские судьбы этих соотечественников пройдут перед вами в нашем кладбищенском странствии, на этой «лучшей из прогулок» (по выражению упомянутого выше М. Данселя), в нашем паломничестве к русским могилам, разбросанным по волшебному берегу Ривьеры…
От райского Йера к Мимозному Борму и деревеньке Лаванду
Наше паломничество к родным могилам будет, как вы уже поняли, путешествием по кладбищам древних живописных селений средиземноморского берега. Трудно отказаться от надежды, что проявленное нами внимание к последнему приюту ушедших будет небезразлично для тех, кто ушли в мир иной близ этих мест. Отчасти потому я и приглашаю вас в путь.
Начать его я решил в городе Йере, что в департаменте Вар в четырех километрах от прославленного Лазурного Берега. Городок возник близ моря, но все же и не на самом его берегу: от него меньше часа пешего ходу до песчаных пляжей полуострова Жиен. Фокейские греки основали тут первое поселение еще в незапамятные времена, так что уже за четыре века до Рождества Христова правила здесь эллинская Ольбия. В Х веке город упомянут был как Йер, но до того, как стал он зимним прибежищем для северян-иностранцев, ищущих тепла да избавления от недугов, прошло еще добрых восемь столетий. Город, окруженный крепостной стеной, высился близ горного массива, на склоне холма Кастеу. От этих стен двинулся некогда король Людовик Святой в Седьмой крестовый поход, а что до замка Йера, то он был разобран уже в XVII веке по приказу Людовика XIII. После этого прошло еще больше трех столетий до последней здешней военной стычки с врагом в августе 1944 года, когда американцы с британцами, вкупе с подразделением сенегальцев, очистили берег от немцев, охотнее, понятное дело, сдававшихся в плен американцам и британцам, чем сенегальцам. Тем последняя мировая война и была здесь закончена: снова, как до войны, потянулись хворые иностранцы в городок Йер, который американский писатель Скотт Фицджералд назвал когда-то «прелестнейшим из всех мест на земле».
Давнее пристрастие англосаксов к нежному Йеру вполне объяснимо. Всякий, кто провел хоть одну сырую, зябкую зиму на зеленом британском острове, без труда догадается, что первыми иностранцами-бокогреями должны были стать англичане. Одним из первых (два с лишним века назад) грелся на этом берегу британский посол, лет десять спустя (в 1788–1789) зимовал в Йере принц Уэльский, подавший добрый пример всей лондонской знати, а в 1791-м даже вышел в свет английский роман, действие которого разворачивается в Йере. Так что и с европейской знатью и с изящной словесностью у маленького Йера довольно старые и престижные связи. Творец знаменитого «Острова сокровищ» Роберт Льюис Стивенсон, поселившись здесь в 1863 году, во всеуслышанье заявил, что это «почти рай». Королева Виктория отдыхала в Йере добрых три недели, однако самое крупное (и близкое к литературе) событие имело здесь место еще до Стивенсона и до королевы, а именно в 1860 году. На нем я и собираюсь остановиться далее подробно, а пока два слова о самом городке, каким я его впервые увидел.
Пестрящий южными цветами, шелестящий пальмами Йер хранит и поныне следы своей почтенной и живописной старины. Высится в центре города на площади Масийон башня XII века, в которой размещалась некогда командерия тамплиеров. За площадью петляют узкие средневековые улочки, ревниво сохраняющие булыжное покрытие. На одной из улиц слепит глаза голый фасад «старческого дома», на который еще лет десять тому назад советовал я местным властям прибить мемориальную доску с именем замечательного русского поэта, который провел в этом доме последние годы жизни и умер в нем, успев написать здесь свои новые, совершенно упоительные стихи. Его имя было Георгий Иванов, и если власти в Йере не последовали моему совету, то, вероятно, не только оттого, что никто здесь не читает книг по-русски. Просто – кому нужны советы бродячих иностранцев? Своих-то выслушать некогда… Как верно отмечал живший неподалеку отсюда Иван Бунин, даже при советской власти, никто ни с кем никогда не советовался.
Не вовсе случайная здесь ссылка на Бунина подводит меня вплотную к имени, без упоминания которого не проходило ни одно застолье в ривьерском бунинском доме. К тому самому имени, с которого я и собирался начать наше паломничество к русским могилам. К единственному русскому имени, которое слышали, может, даже в мэрии города Йера. К русскому имени, которое помнят и на здешнем городском кладбище. Это имя – ТОЛСТОЙ. Уверен, что когда ни то прильет к этим берегам всеобщая грамотность и любой французский труженик, даже какой-нибудь там кибернетик или математический доктор наук, скажет: «Как же, помню это имя: Леон Толстой. У него еще братан в Йере лежит на кладбище…»
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ, любимый старший брат Льва Николаевича, умер в Йере в самом начале октября 1860 года и был похоронен на городском кладбище «Парадиз». Трагическое это событие стало одним из величайших потрясений в жизни младшего брата Льва, великого писателя земли Русской.
Николай Толстой (по семейному Николенька) был тоже писателем, даже напечатался однажды в «Современнике» и был тепло принят его знаменитыми издателями – Некрасовым, Тургеневым, Панаевым. Очерк тридцатилетнего Николеньки «Охота на Кавказе» остался единственным напечатанным им при жизни сочинением. У Николеньки не было ни темперамента, ни амбиций младшего брата, ни его упорства и энергии. Но человеком он был добрым, высоконравственным. Он более других привязан был к матушке, которая умерла так рано. Семилетний шалунишка Коля (Коко) остался за старшего в ватаге сирот, и овдовевший отец, возлагая на его детские плечи большую ответственность, написал однажды: «Я рекомендую Коко быть для своих братьев примером послушания и прилежания». Как ни удивительно, Коко понял и принял эту ответственность и стал для младшего брата и сестер примером и воспитателем. Левушку он называл «мой дорогой ученик». И надо сказать, в этом своем качестве воспитателя он проявил талант и воображение писателя. Он придумывал для младших детей игры и сказки, увлекая их на поиски некой волшебной «зеленой палочки», зарытой в парке на краю оврага. На ней, дескать, были написаны тайные слова, которые помогут истребить зло в людях и открыть все блага. Детские выдумки Николеньки, пересказанные позднее младшим братом, произвели на русских интеллигентов немалое впечатление. Мне довелось, например, читать, что, добравшись столетие спустя до вольного Парижа, русские изгнанники (среди них писатель Дон Аминадо и великий бакалейщик-караим Ага) начали новую жизнь с издания детского журнала: дети должны были вырасти другими, чтоб не разделить унижения изгнанных отцов и дедов. И название для нового журнала не случайно пришло им в голову именно такое: «Зеленая палочка».
Жизнь Николеньки Толстого протекала в соответствии с традицией его круга. В 16 лет он поступил на математический факультет Московского университета, потом учился в Казанском университете, потом служил в артиллерии близ Москвы. Получив при разделе имущества наследное имение, он удалился в усадьбу, читал на досуге стихи, писал, охотился. Потом вернулся на военную службу, послужил на вечно бунтующем Кавказе, не раз был награжден орденами за храбрость в деле, а тридцати пяти лет от роду вышел в отставку в чине штабс-капитана. И притом оставался все тем же добрым, честным, слегка апатичным (с юности предпочитал не ходить в гости, а ждать, чтобы друзья пришли к нему), чувствительным братом…
Сохранилось его письмо родным о том, как тяжко ему было сдавать своих крепостных (имел он 317 душ мужеского пола) в рекруты: «Не знаю, что лучше: видеть, как умирает солдат в деле или как провожают гожих, как у нас их называют. Бедный наш, добрый русский мужик! И когда поймешь, что никак не можешь облегчить его участь, то сделается как-то гадко и досадно за себя».
Часто ли услышишь нынче подобное, хоть бы от видных патриотов, гуманистов и «властителей дум»?
Вскоре после ухода в отставку, когда в своем поместье читал Николай умные книги и занимался переводом Библии, обнаружилось, что вездесущая чахотка, гнездившаяся в его теле, перешла в наступление. Родные повезли его на леченье в теплую страну докторов Германию. Но осень в Германии в тот год выдалась холодная, Николеньке стало хуже, и тогда младший брат перевез больного в хваленый французский город Йер, где все еще тепло. Поехала с братьями и сестра Мария, обремененная детьми. Сестра сняла виллу у моря, а братья остановились в пансионе на нынешней рю Кюри. Здоровье Николая быстро ухудшалась. Младший брат Лев вспоминал об угасании старшего: «Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым ее шагом следил…»
Не прожив в Йере и месяца, Николай покинул наш мир и младшего брата, отчаянье которого было безграничным. «Мало того, что это один из лучших людей, которых я встречал в жизни, – писал Лев Николаевич, – <…> что с ним связаны лучшие воспоминания моей жизни? – это был лучший мой друг».
Тема смерти прочно входит в творчество брата-писателя. Тогда, в Йере, и долгие годы после Йера потрясенному Льву Толстому казалось, что случившееся у него на глазах с братом делает самую человеческую жизнь бессмысленной. Он написал в письме через несколько дней после трагедии: «…он умер буквально на моих руках. <…> Для чего хлопотать, стараться, если от того, что было Н.Н. Толстой, ничего не осталось. <…> К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью подлости, лжи, самообманывания, а кончатся ничтожеством…»
Всем, даже глубоко верующей тетушке, Толстой пишет в те дни о своей ненависти к смерти. Смерть – конец всему. И какой же тогда смысл в жизни?
Тема смерти проходит почти через все произведения Льва Толстого, и только после происшедшего в нем перерождения в конце семидесятых годов он смиряется с ней, не веря больше, что это конец всему. Собственно, уже в «Войне и мире», рассказывая о смерти Андрея Болконского, Толстой пишет, что «то грозное, вечное, неведомое присутствие, которое он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и – по той странной легкости бытия, которую он испытывал, – почти понятное и ощущаемое…». Толстой пишет о «простом и торжественном таинстве смерти», о смерти как пробуждении и даже новом рождении.
К концу семидесятых годов он приходит к убеждению, что смерть есть лишь переход в другое бытие, что хорошо жить – значит хорошо умереть. Что умереть – значит просто уйти туда, откуда пришли. Может быть, человек просто меняет способ путешествия… «Рад, что не перестаю думать о смерти», – пишет он о своей «радостной готовности к смерти».
Смерть пришла к младшему брату в свой черед, и она явилась тогда потрясением для всей мыслящей России. В своем биографическом романе В.В. Набоков рассказывает, как восприняли весть об этой смерти его молодые родители, оказавшиеся в ту пору за границей. Эта весть словно требовала от них, интеллигентов, какого-то решения. И они решили вернуться в Россию…
После смерти брата Лев Николаевич оставался еще некоторое время в Йере, жил на вилле, снятой сестрой Марией, ездил в Италию, изучал систему образования во Франции. Это была его последняя зарубежная поездка.
Через каких-нибудь два десятка лет после погребения Николая Толстого именно на месте кладбища «Парадиз» городок решил построить новую школу. Поскольку могильный участок Н.Н. Толстого был оплачен «навечно», прах его был перенесен на кладбище «Риторт», как, впрочем, и останки из других могил, оплаченных для вечного упокоения. Однако нетрудно догадаться, что в местах, где земля становится что ни день то дороже, а земельная спекуляция все беспощадней, покой нам только снится. В конце концов местные власти приняли вполне практичное решение в отношении братства усопших (без учета, конечно, их пожеланий, земных званий, надежд, рода занятий, былой деятельности). Останки «навечно» похороненных русских, переселенные с прежнего кладбища, снесли для удобства и экономии в одну общую могилу, на которой установили привезенное из России солидное каменное надгробье, и на нем были высечены имена граждан России, умерших в Йере от туберкулеза совсем еще молодыми. Список открывает имя графа Николая Николаевича Толстого, прожившего на свете 37 лет…
Другие погребенные здесь россияне прожили и того меньше: МИЛОСЛАВ КИРКОВСКИЙ из Вильны – тридцать три года, СТАНИСЛАВ ВСЕСЛАВСКИЙ не дожил до тридцати, супруги ЭДЖЕХОВСКИЕ, граф АРСЕНИЙ МОШЕН, граф ПЕТР КОЗЛОВСКИЙ, ЕКАТЕРИНА РУБАКОВА…
Если двинуться от Йера по живописной дороге, ведущей на северо-восток, то за каких-нибудь полчаса доберешься в сказочный древний городок на горе, почти нависающей над морем. Типичное горное селение: узкие улочки, осененные арками, цветы, кактусы, лимоны, пинии…
Древние римляне называли этот городок Бормани. Позднее он стал Бормом, точнее даже Сосновым Бормом. И только в двадцатые годы прошлого века обитатели Борма попросили переименовать их живописный городок в Мимозный Борм. Власти пошли навстречу народным чаяниям: завезенная из мексиканского похода мимоза преобразила улочки города.
Красоту этого крошечного городка не раз воспевали мимохожие и мимоезжие поэты, в том числе и русские. Один из них (вполне известный когда-то в Петербурге поэт Саша Черный) писал под конец жизни вполне умиленно:
Борм – чудесный городок,
Стены к скалам прислонились,
Пальмы к кровлям наклонились.
В нишах тень и холодок…
И еще много-много улыбчивых стихотворных русских строк написал о Борме влюбленный в этот провансальский городок поэт-изгнанник, знакомый некогда всему столичному Петербургу и счастливо заброшенный на этот русский в ту пору берег.
Мимозный городок Борм, отрада художников и поэтов, и до недавнего времени дышал русскими воспоминаньями. Я их там еще отметил, пройдя от главной площади и часовни Святого Франсуа де Поля к воротам здешнего кладбища, от ограды которого открывается упоительный вид на изумрудную долину и синий морской простор.
Едва войдя на кладбище, можно увидеть немаловажное для нашего рассказа русское надгробие. Упоминание о нем, как, впрочем, и обо всем этом кладбище, не попало даже в престижную некропольную книгу отставного полковника Романова, вышедшую недавно в Москве, а между тем с именами похороненных здесь АПОЛЛИНАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ ШВЕЦОВОЙ (1877–1960) и БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА ШВЕЦОВА (1873–1939) связано было непредвиденное распространение русской речи на здешнем берегу.
Борис Алексеевич и Аполлинария Алексеевна были сибиряки, родом из далекой забайкальской Кяхты, некогда бойкого городка на торговом пути. Из Восточной Сибири в Китай, из Китая в Сибирь тянулись через Кяхту караваны верблюдов. Городок украшался и богател. Здешние дамы шили себе платья в Париже, на концерты в Кяхту они приглашали теноров из Италии… Конечно, занимались, как положено, благотворительностью, много читали, собирали ценные библиотеки.
Правда, с постройкой железной дороги (КВЖД) торговое значение Кяхты стало падать, но в конце XIX века городок переживал еще неплохие времена. А похороненный здесь Борис Алексеевич Швецов как раз и родился в ту пору в семье местного чаеторговца. Еще совсем молодым освоил он чаеторговую науку, по запаху мог издали различать сорта чая, стал видным человеком в Кяхте (где по-монгольски дружески беседовал с главным ламой), а потом в Москве, Петербурге, да и в Лондоне стал известен. Был он коммерции советником, членом страховых и биржевых обществ. Свои конторы чайной торговли имел по всему свету, так что с приходом русского всеобщего разоренья в новом веке не вовсе обнищал. Имел дом под Парижем, а также землю близ Соснового (позднее Мимозного) Борма, неподалеку от берега в селении Ла-Фавьер. Соседкой его и собеседницей в Ла-Фавьере была Людмила Врангель, дочь известного в свое время в Москве и в Крыму врача и писателя С.Я. Елпатьевского, лечившего М. Горького, знавшего А. Чехова, да и вообще весь московский художественный свет и весь Крым. Среди прочих чудес доступной тогда заграницы описывал этот знаменитый пишущий доктор и здешний прославленный берег, на котором довелось позднее жить его дочери с мужем – строителем и бароном Н. Врангелем (который здесь, кстати, и жизнь свою кончил): «Вот она, наконец, Ривьера, живая, настоящая Ривьера, та расфранченная блестящая красавица, какой рисуется она нам! <…> ярко-синее небо, глубокое и блестящее, и кругом голубое море, уходящее из глаз в ту широкую даль, где цвета сливаются и где перестаешь различать море от неба. Как светло, зелено и радостно кругом и как все выделяется ярко и выпукло. Все чужое, диковинное». Жизнерадостный ироничный доктор Елпатьевский живописал все это еще до прихода страшного века, когда описанный им чудный берег нежданно приютил его читателей-изгнанников и больше не был для них ни чужим, ни экзотическим. И чего уж он вовсе не мог предвидеть, знаменитый доктор, что в заселении здешнего берега такое активное участие примет его собственная дочь Людмила. Так что не одни пациенты не предвидят своих судеб, но и доктора, которым колонизаторы этого берега, древние римляне, советовали самим перво-наперво исцелиться…
Случилось так, что подросшая и вышедшая замуж за инженера энергичная дочь знаменитого доктора Елпатьевского Людмила (уже в начале нового, начинавшего сходить с ума века) основала небольшое дачное поселение русской интеллигенции на каменистом берегу Западного Крыма, в Баты-Лимане. А позднее, уже после русской катастрофы и бегства из России, здесь, в Ла-Фавьере, беседуя по вечерам с бывалым сибиряком Борисом Швецовым (она прекрасно описала позднее в своих мемуарах этого «грузного, с расстегнутым воротом на могучей сибирской груди» бизнесмена и любителя книг), предложила ему купить у соседки-крестьянки кусок земли (холм близ берега), потом поделить эту землю и распродать участки под дачные дома для русских. Так они и сделали. Первыми начали строить дачи былые обитатели крымского Баты-Лимана, бывшие столичные знаменитости вроде кадетского лидера, историка и журналиста Павла Милюкова и художника Ивана Билибина. Потом появились на этом берегу писатель Куприн, художники Коровин, Гончарова, Ларионов, Рожанковский, ученые (Франк, Когбетлянц), композиторы (Гречанинов, Черепнин) и поэты (Цветаева, Поплавский, Саша Черный)…
Вот так и возник на французском берегу если не прославленный крымский Коктебель или не вполне знаменитый Баты-Лиман, то все же памятный для русской эмиграции провансальский Ла-Фавьер.
В этих местах и умер Борис Алексеевич Швецов. Скончался в 1939 году, как и многие русские, не пережив шока еще одной войны проклятого века. Здесь он и покоится, на маленьком кладбище Мимозного Борма.
Добравшись до самого живописного (юго-восточного) уголка этого кладбища, увидел я семейную могилу князей Оболенских. В ней одно из многих ответвлений княжеского древа Оболенских. Говорят, что княжеское древо это из самых раскидистых в последних пяти веках русской истории (от Оболенских, как сообщают, пошли и Долгорукие, и Щербатовы, и Репнины). Ведь и во французском изгнании оказалось не менее трех ответвлений рода. Патриархом той ветви, которой дала приют живописная могила на кладбище в Мимозном Борме, явился князь ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1868–1950), человек поистине выдающийся. Он родился в Санкт-Петербурге в семье князя Андрея Васильевича Оболенского и княгини Александры Алексеевны Оболенской (урожденной Дьяковой). Андрей Васильевич был сыном героя Отечественной войны, статским советником, общественным деятелем и, по свидетельству Льва Толстого, хорошим человеком. Современники отмечают, что у вполне достойного петербуржца А.В. Оболенского было одно неудобное, хотя и весьма распространенное, пристрастие – к игре в карты, сильно подорвавшее достаток семьи. То не слишком значительное внимание, которое Лев Толстой уделил качествам князя Андрея Васильевича, объясняется, скорее всего, глубоким впечатлением, произведенным на великого писателя в его молодые годы будущей женой А.В. Оболенского, то есть матушкой похороненного здесь князя Владимира Андреевича – Александрой (Александрин) Дьяковой. Это была воистину замечательная девушка. Она была дочерью баронессы Дальгейм де Лимузен, бежавшей от кровавой французской революции ко двору русской императрицы Екатерины II. Беженцев из Франции было тогда довольно много, и принимали их в России вполне ласково. (Со здравым пониманием всех перемен можно отметить, что тех, кто бежал позднее во Францию от еще более кровавой русской революции, принимали куда более безразлично.)